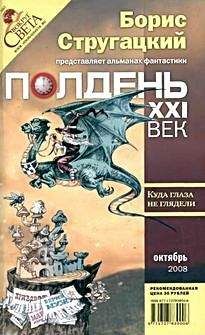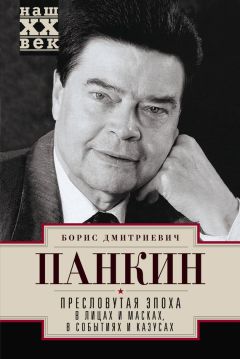Автор неизвестен - Аспазия
— Ты прав, — сказала Аспазия. — В борьбе против скуки мы все твои союзники.
Аспазия приказала подать новые кубки, которые гости быстро осушили и снова наполнили. Возбужденные духом Диониса веселые шутки, смех и пение раздались на перистиле.
Наступила полночь.
Вдруг внутренняя дверь в перистиле отворилась и из нее медленно, как привидение, с закрытыми глазами, появился Манес — Манес-лунатик.
Он не принимал участия в пиршестве и потихоньку ушел к себе. Теперь же странная болезнь подняла его со спального ложа.
При виде бродящего с закрытыми глазами Манеса, громкая веселость гостей смолкла. Все с ужасом, молча, глядели на призрачного посетителя…
Перейдя через перистиль, он направился к лестнице, которая вела наверх, на плоскую крышу дома. Он поднялся по этой лестнице твердыми шагами и исчез из глаз гостей.
Когда прошел первый испуг, большинство присутствующих решилось следовать за ним.
— Так наказывает Дионис тех, кто противится его веселому кругу! вскричала Аспазия. — Пойдемте за этим ненавистником богов, мы разбудим его и силой заставим принять участие в нашем пиршестве.
При этих словах гости бросились на крышу дома.
Когда они вошли туда, то их взглядам представилось зрелище, вызвавшее ужас: Манес шел по выдающемуся карнизу крыши, по которому мог идти только лунатик, с закрытыми глазами, рискуя каждую минуту упасть.
Между тем, остальные обитатели дома тоже узнали о том, что Манес ходит во сне. Перикл в свою очередь явился на крышу. Он также испугался, увидев юношу:
— Если он проснется в это мгновение, то ему не спастись, а между тем, приближаться к нему нельзя.
В ту минуту, как Перикл выговорил эти слова, на крыше появилась Кора.
Страшно испуганная, бледная, как смерть, с широко раскрытыми от страха глазами, смотрела она на лунатика. Услыхав слова Перикла, она вздрогнула, затем, точно на крыльях, бросилась к тому месту, где шел Манес, и в одно мгновение очутилась на карнизе. Твердо сделала она несколько шагов по опасному пути и, схватив за руку юношу, быстро повела за собой до тех пор, пока не почувствовала под ногами твердую почву.
Только тогда, когда Манес был спасен, она почувствовала слабость и без памяти рухнула на пол. Тогда разбуженный Манес, в свою очередь с испугом обхватил девушку и держал ее в руках до тех пор, пока сознание снова не возвратилось к ней и она, испуганная и смущенная, бросилась бежать.
Все присутствующие с изумлением следили за этой сценой. Теперь все окружили Манеса и весело повели его в перистиль. Только Перикл на несколько мгновений остановился с Аспазией.
— Как я сожалею, — сказал он, — что Сократ не был свидетелем этой сцены.
— Почему ты об этом жалеешь? — спросила Аспазия.
— Он, наконец, узнал бы, — отвечал Перикл, — что такое любовь.
Аспазия промолчала, следя за выражением лица Перикла, затем сказала:
— А ты?
— Меня смущает эта пара, — отвечал Перикл. — Мне кажется, как будто они хотят сказать: «Сойдите со сцены — уступите нам место!»
Несколько мгновений глядела Аспазия в серьезное и задумчивое лицо Перикла, затем сказала:
— Ты более не грек!
Немногочисленны были слова, которыми они обменялись, но многозначительно и тяжело упали они на чашу весов судьбы. Они произвели нечто, вроде тайного разрыва между двумя возвышенными, некогда столь прекрасными и во всем согласными существами.
В душе Перикла пробудилось мрачное сомнение, внутреннее противоречие.
Со своими словами «ты более не грек» Аспазия бросила на Перикла последний негодующий, сострадательный взгляд и отвернулась.
Оба молча спустились вниз: Перикл — к себе, Аспазия — обратно к гостям.
Между тем веселые товарищи напрасно старались удержать Манеса и принудить его к служению веселому Дионису. Он вырвался от них и удалился во внутренние покои дома.
Затем разговор некоторое время шел о Коре: все удивлялись ее мужеству или, лучше сказать, замечательной силе страсти, под влиянием которой она действовала и голос которой для всех был голосом неразрешимой загадки.
Тогда Алкивиад выразил сожаление, что Сократ не был свидетелем этой сцены.
— Каким праздником, — говорил он, — было бы это происшествие для нашего мудреца и искателя истины, который теперь не успокоится, пока не исследует этого замечательного случая. Он сам — нечто вроде лунатика, лунатика философии, который закрывает глаза, чтобы лучше думать и таким образом попадает на недосягаемые вершины. Только у него нет никакой Коры, которая могла бы своей мягкой рукой спасти его от пропастей мысли. Я пойду к нему и опишу эту сцену, хотя посещать Сократа в его доме опасно, так как юная Ксантиппа всегда боится, что я испорчу ее мужа и постоянно глядит на меня неблагосклонным взглядом. Когда я посетил новобрачных с несколькими друзьями, мы привели ее в сильное замешательство. Она рассыпалась в жалобах и восклицаниях, что не в состоянии достойно принять таких знатных людей, как мы. «Оставь, сказал ей Сократ, — если они хорошие люди, то будут довольны, если же дурные, то не будем о них заботиться». Но этими словами он только озлобил Ксантиппу. Я сразу заметил, что она глава в доме. Тогда я для забавы стал вести с ее мужем свободные речи. С тех пор она питает ко мне устойчивую ненависть. Когда я недавно послал ее мужу угощение в дом, то она в гневе зашла так далеко, что выбросила все присланное из корзины на землю и растоптала ногами. А Сократ? Он только сказал: «Зачем ты это сделала? Если бы ты не растоптала присланного ногами, то мы могли бы все это съесть». О горе! Мне кажется в Афинах мудрейшие мужи не умеют больше обращаться с женами.
— Клянусь моим Демоном, — продолжал Алкивиад, осушив кубок, — мир близится к разрушению: Делос расшатан, Теодота сошла с ума, мудрецами управляет женщина, я сам собираюсь жениться на дочери Гиппоникоса, лунатики расхаживают по крышам, Пелопонес вооружен, на Лемносе и на Эгине чума…
— Не забывай солнечного затмения, — вмешался Демос. — Не мешает также припомнить, что в доме Гиппоникоса появилось приведение.
— Это правда? — спросили все присутствующие Каллиаса, сына Гиппоникоса.
— Да, это правда, — ответил он и рассказал, что действительно, в доме его отца появилось приведение, что Гиппоникос побледнел и похудел, что ему не идут в горло вкусные кушанья, что ночью как будто целая гора ложиться на него…
— Итак, — вскричал Алкивиад, — прибавим солнечное затмение и приведения в доме старых кутил! Пусть мир убирается к черту, если все будет в нем так мрачно! Еще раз повторяю, друзья, вперед! Будем бороться против мрачного, которое грозит овладеть всем миром!
— Разве мы нуждаемся в таких воззваниях! — вскричал юный Каллиас. Клянусь Гераклом, мы устроили ныне праздники, как никогда. Кажется, мы вели себя так, как можно было ожидать от веселых итифалийцев. Разве вся афинская молодежь не стоит за нас? Разве были в Афинах когда-нибудь более веселые праздники Диониса? Видели ли вы когда-нибудь, чтобы народ так веселился? Разве вино не течет потоками? Разве когда-нибудь в толпе бывало больше юных девушек? Разве бывало когда-нибудь в Афинах такое множество жриц веселья? Что ты говоришь о мрачных временах, Алкивиад, напротив, ныне веселые времена. Мир стремится к веселью, а не от него, как ты утверждаешь и, что бы ему ни угрожало, мы будем веселиться.
— Да здравствует веселье! — вскричали все.
Зазвенели кубки.
— Каллиас, друг мой, дай мне обнять тебя! — вскричал Алкивиад, целуя друга, — так хотел бы я, чтобы ты всегда так говорил. Да здравствует веселье! А для того, чтобы оно вечно жило и увеличивалось, итифалийцы должны соединиться со школой Аспазии — на нас и на этой школе, как на твердом основании, может покоиться веселье. Не сердись на Алкивиада, Зимайта, и ты Празина, и ты Дроза. Улыбнись снова, Зимайта, сегодня ты прекраснее, чем когда-либо. Клянусь Зевсом, за одну улыбку твоих прелестных уст, я готов потерять тысячу драхм моего пари и заставить еще немного подождать дочку Гиппоникоса!
Тогда все обратились к Зимайте, упрашивая ее помириться с Алкивиадом. Сама Аспазия вмешалась в дело.
— Не сердись более на Алкивиада, — сказала она. — Утверждая, что школа Аспазии должна быть в дружбе с его итифалийцами, он может быть прав, но только в том случае, если разнузданность итифалийцев будет сдерживаться в границах женскими руками. Мы должны принять в свою школу этого итифалийца, чтобы научить его истинному прекрасному равновесию, чтобы не дать погибнуть веселому царству радости среди мрачного и грубого.
— Мы отдаемся тебе! — вскричал Алкивиад. — И выбираем Зимайту царицей в царстве радости.
— Да, да, — раздалось со всех сторон, — итифалийцы не имеют ничего против того, чтобы их сдерживали такие прелестные ручки.