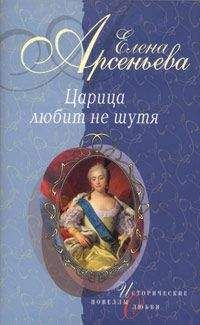Сергей Сергеев-Ценский - Севастопольская страда. Том 2
— О-о!.. «Орудие к борту!» — повторил отец сияя.
— «Орудие к борту!..» А когда вызывают по тревоге из землянок, кричат: «На палубу!»
— «На палубу!..» А-а!
— Разве я тебе не говорил этого раньше?.. Дежурных у нас никаких не знают, как в пехоте, — у нас «вахтенные». А если раненый солдат заведет голос, его сейчас же матрос оборвет: «Чего завел волынку? Чтобы француз тебя такого услыхал да подумал бы, что бабы у нас на бастионе? Ты лежи себе да молчи, пока на перевязочный не доставили. А там уж ори себе на здоровье, — там теперь есть кому тебя слушать: милосердные сестрицы этими делами занимаются!»
Сказав это, Витя перевел глаза на «иволгу», не обиделась ли, взял ее похудевшую руку, погладил нежно и добавил улыбаясь:
— Насчет сестриц милосердных это они, конечно, «шуткуют», а сами, — видал я на перевязочном, — готовы не пить, не есть, только бы к ним сестрица подошла… Один уж почти умирал совсем, — выше колена ногу ему Пирогов отпилил, да что-то неудачно: гангрена началась, — так вот он говорил: «Сестрица, вы хотя мимо меня пройдитесь только, вроде как вы бы на Приморском бульваре гуляете, а я бы, например, будто боны на якорь в бухте ставлю, а сам на вас дивлюся не в полный глаз…»
— Это какой же сестре он так говорил? — очень живо, как и не ожидал Витя, спросила Варя.
— Да не узнавал я фамилию, признаться… Она уж и немолодая, только очень ко всем раненым внимательная.
— Не здешняя? Из приезжих?
— Из приезжих… Из пироговских…
— А твою рану кто перевязывал?
— Ну-у, мою!.. У меня какая же там была рана — пустяки! — покраснел Витя. — Стал бы я тоже свою рану давать сестре перевязывать… Мою, конечно, фельдшер.
— А кто же, кто же там… командиром кто… на Камчатке? — с усилием спросил отец.
— Кто? Сенявин, капитан-лейтенант.
— Се-ня-вин!.. А-а!.. Это вот хорошо… очень, да… Сенявин!.. Это он… природный моряк, как же-с… Он там будет… держать вот как — Сенявин!
И старый Зарубин сжал руку — всю из сухожилий, хрящей и синих вен — в трясучий кулак, стараясь наглядно показать сыну, как способен будет держать этот новый сухопутный корабль — «Камчатку» — потомок старого известного адмирала Сенявин.
При этом глаза отца, — отметил Витя, — блистали так же остро и ярко, как остатки стекол в окне, разбитом залетевшим осколком снаряда. Витя даже поглядел для проверки впечатления на это окно, а мать, заметив его движение, проговорила, жалуясь:
— В кабинете на стуле лежит сокровище-то это… Вот уж мы перепугались тогда, — это ведь ночью случилось!.. И далеко же от нас разорвалась, проклятая, — у Микрюкова в саду, — а к нам вот долетело…
Ведь если бы кто из нас стоял тогда около окна, — по-ми-най как звали!..
Спасибо, мы уж все спать тогда легли.
Маленькая, синеокая, с беленьким вытянутым личиком, Оля пристально наблюдала, когда рассказывала это мать, за своим братом-солдатом — испугает ли это его хоть немного, но он только улыбался снисходительно, и это ее удивило.
— А там, на ба-сти-оне на твоем, тебе, скажешь, не страшно, а? Совсем не страшно? — спросила она, глядя на него в упор.
Витя притянул ее к себе, взял за плечи, потрепал выбившиеся из маленькой косички мягкие белые волосы и ответил к ее удовольствию:
— Нет, брат, каждый день бывает страшно.
— Ага!.. Вот видишь! — торжествовала Оля.
— Каждый день бывает страшно, — повторил Витя, — потому что каждый день повадился к нам на бастион приходить один пьяница, бывший кучер, с такою вот девчушкой маленькой, как ты… Приносит он к нам продавать франзоли, — целую корзину на солдатском ремне белом через плечо, а девчушка эта получает за него деньги и прячет к себе в мешочек, а иначе «тятька пропьет»… Конечно, мать ее франзоли эти печет, мужа своего пьяницу посылает их продавать, а девчушка с ним для контроля… Вот за нее-то мне всякий раз и бывает страшно: вдруг заденет ее осколок или пуля, много ли ей надо?
— А если… если заденет, ты будешь плакать? — очень тихо и очень серьезно спросила Оля, и Витя ответил ей так же тихо и так же серьезно:
— Буду.
Капитолина Петровна, чуть только речь коснулась франзолей, осведомилась, почем они там, на бастионе, покупают франзоли, почем бублики, пирожки, оладьи и почем со штуки моют им там белье матроски с Корабельной. Она была в цепкой власти пугающего ее не менее бомбардировок крутого повышения цен на все в ежедневном домашнем обиходе. Отец же Вити жил больше мелочами боевой обстановки, примеряя их к воспоминаниям о своем прошлом, о сослуживцах-моряках, о командирах…
— Ну, а как там, а… Владимир Иваныч как?.. Ничего, здоров, а? — спросил он об Истомине.
— Владимир Иваныч наш как был, так и есть, — весело отозвался Витя. — Змей-горыныч о семи головах! Так его солдаты прозвали, не я… «И что это, говорят, за адмирал такой, чистый Змей-горыныч о семи головах! Где самый кипяток кипит, он туда и лезет!» Я понимаю, на корабле от снарядов не спрячешься, некуда прятаться, а ведь на бастионе вся земля вдоль-поперек изрыта: где траншея, где боскет, где целый блиндаж, — на каждом шагу есть прикрытие… А Владимир Иваныч все думает, что он и в самом деле на палубе: станет с трубою на самом открытом месте и рассматривает, что у противника… Противник же тоже имеет трубы и подымает, конечно, пальбу.
Около него уж нескольких адъютантов подстрелили, а он сам только один раз ранен был, только легко, вроде меня, да раз, говорят, контужен, тоже легко, с ног не свалился… Говорят, у всех французских офицеров амулеты какие-то есть необыкновенные, — может, и у нашего Истомина такой амулет?
Только ведь чепуха же, должно быть, все эти амулеты.
— Иконка, должно быть, материнское благословение, — сказала Капитолина Петровна. — Вот и насчет «Трех святителей» говорят, почему он не тонул тогда: икону забыли снять явленную, он и стоял, а потом вспомнили, сняли — сразу пошел ко дну.
Старый Зарубин медленно повел головой, сомневаясь, но не решаясь отвергнуть этот слух, хотя сам он видел, как пароход «Громоносец» расстреливал его корабль. Витя же счел возможным пошутить только над амулетами французов:
— Не знаю я, что такое за амулеты, — говорят, что и у Боске и у самого Канробера они есть, — только на Селенгинском редуте пришлось мне видеть в феврале человек пять убитых французских офицеров: плохо им помогли их амулеты. Может быть, что-нибудь носит и Владимир Иваныч, а только мы все за него боимся, и я тоже.
— А если его убьют, ты плакать будешь? — спросила вдруг внимательно слушавшая Оля.
— Кого убьют? — удивился Витя. — Адмирала Истомина? Тебе-то какое до него дело? Ты ведь его не знаешь?
— Ну что же, что не знаю!.. А ты говори, будешь по нем плакать, если его убьют? — настойчиво повторила девочка, не отводя глаз.
— По Владимиру Ивановичу чтоб я не плакал?.. Не только плакать — рыдать по нем буду!
И Витя отвернул лицо к разбитому окну, чтобы скрыть, как совершенно непроизвольно замигали мелко веки его глаз, и голосом совсем глухим и бесцветным добавил:
— Это же душа Малахова кургана — Истомин… Никто не хочет у нас думать даже, чтобы его и ранить могли, а не то что…
Слово «убить» теперь уж не захотело слететь с его языка.
Отец был тоже в волнении и пристукивал в пол палкой молча, а мать, воспользовавшись этим молчанием, спросила:
— Ипполита Матвеевича не видал?
— Дебу? Где же я мог бы его видеть? А что, он еще не произведен? — безразлично спросил Витя.
— Да вот все ждет со дня на день… «Теперь, говорит, при новом императоре непременно должны произвести… Тогда уж, говорит, приобрету я все права человеческие, каких я пять лет назад лишился…» Вот уж кто беспокоился-то, когда Варя была больна!
— Мама! — покраснела вдруг Варя так, что и глаза ее стали розовыми.
— Ну, что «мама»! Что же ты в самом деле? Раз человек получит чин офицерский, то, значит, его и сам царь прощает, а ты уж к нему немилосерднее закона быть хочешь.
Витя понял, что до его прихода были какие-то сложные семейные разговоры насчет Дебу, но вникать в них ему не хотелось, даже казалось совсем неудобным. Он сослался на то, что должен бежать на бастион, и поднялся. Прощаясь с Варей, он спросил ее:
— Ты что же теперь, как — опять на перевязочный сестрой?
— Разумеется! А как же иначе? — удивилась его вопросу Варя и почему-то слегка покраснела снова.
Желая показать, что он и не ожидал от сестры другого ответа, Витя заговорил снова о Малаховом:
— Три матроски у нас есть: воду на бастион снизу из колодца на коромыслах носят для солдат, для матросов, целый день они этим заняты. Их прежде четыре было, да одной штуцерная попала в грудь, прямо в сердце.
Могли бы эти три о себе подумать, что и с ними может то же случиться, однако же ни одна не ушла, — как были, так и остались. Наш Истомин представил их к серебряным медалям за храбрость, — любопытно будет на них тогда посмотреть, как получат… А то у нас еще арестантов порядочно из тех, каких Корнилов покойный выпустил. У них только что головы бритые да тузы сзади на шинелях нашиты, а работают ничем не хуже других, особенно у орудий. Их ведь тоже нельзя даже и представлять к наградам, а Истомин при мне одному Георгия сам навесил, — так теперь этот арестант с крестом и ходит и уж волосы отпустил. А им, правду сказать, давно бы следовало всем тузы сзади спороть, а кресты спереди навесить…