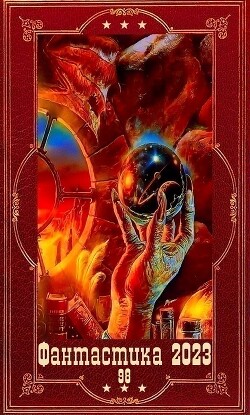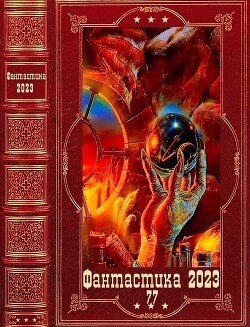Прорыв под Сталинградом - Герлах Генрих
– Дайте вашу воинскую книжку!
Дрожащая рука достает засаленный документ. Капитан принимается жадно листать.
– Значит, вы лейтенант! И вам, голубчик, не стыдно срамить честь офицерского корпуса?!
Солдаты злорадно ухмыляются.
– Не знаю, что на меня нашло, – невнятно оправдывается человек, водя рукой по лицу. – Какое-то наваждение. Я хотел есть.
Капитан окидывает человека ледяным взглядом и возвращает пистолет.
– Надеюсь, вы знаете, что делать! Даю вам пять минут. Потом…
Оборванец молча кивает. Его выводят трое, на лицах ехидствующее торжество. Нечего сказать, офицеры!
“Надел он на себя разноцветные одежды и возомнил о себе больше, чем о братьях своих” [54]. Хорошо, что для таких хмыриков тоже наступает расплата!
– В блиндаж его! – кричит вслед капитан.
Все это время Фрёлих не произносит ни слова. Вскоре возвращается один из конвоиров:
– Господин капитан, пока ничего!
– Тогда помогите ему малость! – говорит капитан.
Фрёлих подходит к столу. Берет воинскую книжку, открывает первую страницу. Читает: “унтер-офицер”, чуть ниже в черной рамке: “с 1 октября 1939 г. фельдфебель”, в новой строке: “с 1 ноября 1942 г. лейтенант”. А потом крупным размашистым почерком: “Гюнтер Харрас”.
Солдат возвращается и с ухмылкой докладывает.
– Готово!
– Вот и славно, – говорит капитан.
Бройер не без труда карабкался за румыном по обледенелому оврагу, через железнодорожные пути, пролезал между товарных вагонов. Дорога до румынского штаба была неблизкой. Он провел беспокойную ночь, подоткнув вещи под голову, с пистолетом наготове. Скудный запас продовольствия подходил к концу. А что, если приткнуться к штабу румынской кавалерийской дивизии, где служил такой приветливый офицер связи – обер-лейтенант Шульц. Это только попытка, за которую пришлось заплатить шестью сигаретами и утомительным переходом.
Они добрались до центра города. По широким улицам бесцельно слонялись толпы оборванных солдат. Справа и слева мертвые кварталы, зияющие окна пяти-шестиэтажных фасадов. Картина примерно такая же, как зимой 1939-го в Варшаве. Война везде оставляла одни и те же следы смерти. Дорогу перегораживала баррикада из мешков с песком. За ней ходили часовые в стальных шлемах и при оружии – на фоне всеобщего развала картина просто невиданная. Справа круглое здание со статуями – местный театр. И то дело, в крайнем случае можно попытать счастья здесь… Румын – добродушный парень с широкоскулым крестьянским лицом – свернул в боковую улицу, до отказа забитую военными людьми. Разрушенные ворота на въезде, маленький дворик столярной мастерской, гора мусора, обломки автомобилей, прильнувшие друг к другу. Проклятье, шутка ли, с одним глазом продираться по таким проломам! Шаткая – недолго и шею свернуть – лестница вела от пробитой стены во второй двор, расположенный чуть ниже, вокруг которого краснели руины высоких кирпичных домов.
Вход в подвал наполовину засыпан, румын нырнул за дверь. Через некоторое время явился снова. За ним немецкий офицер в овчинном жилете поверх кителя.
– Ах, господин Бройер, ну, конечно, припоминаю! Тогда под Клетской… Вы насчет места? Жаль, вчера не пришли! Сейчас все забито. Мы и сами еле перебиваемся. Вон генерал ютится с пятью остальными в настоящей дыре.
Бройер ощутил горькое разочарование. Лишь бы не молчать, он брякнул первое, что пришло на ум:
– А ваш генерал, что он вообще говорит? Каково положение? И что собирается делать?
Обер-лейтенант пожал плечами.
– Что собирается? Пустит себе пулю в лоб! Какие тут еще варианты… Ах да, постойте минутку, со вчерашнего дня у нас квартируются несколько человек из противотанкового, по-моему, из вашей дивизии.
Он направился по длинному коридору в подвальное помещение, набитое людьми. В полутьме сидели мужчины, оголив самые разные части тела, – возились с ранами: перевязывали друг друга или отогревали возле жаркой печи больные обмороженные пальцы. В смежной комнате было чуть светлее. Здесь тоже огонь горел прямо посреди мусора. Вокруг стола сидели офицеры, почти все с видимыми ранениями. Из полинявшего кресла – судя по всему, из штабного казенного добра – поднялся капитан Айхерт. Он постарел на несколько лет. Черты лица еще более заострились, тусклые светлые волосы, ниспадавшие на мясистый лоб, сделались еще более непослушными. В маленьких серых глазках блеснула мимолетная вспышка радости.
– Бройер, вы ли это? Тогда о чем разговор, для вас всегда найдется место! Я не забыл, как вы вызволили меня из клешней бюрократов! То-то господа из военного трибунала, наверно, сейчас нос повесили!
Он засмеялся невеселым смехом, перешедшим в сухой кашель. Потом представил Бройеру других офицеров. Тут был доктор Корн, энергичный брюнет. Парень не промах, – отметил про себя Бройер. Главный казначей Янкун – как потом выяснилось, родом из Данцига – тоже производил солидное впечатление: прямой взгляд и искреннее рукопожатие. С лейтенантом Бонте, адьютантом, встречаться уже доводилось. О командире роты обер-лейтенанте Шмиде было трудно что-либо сказать. Его лицо, исполосованное осколками от гранаты, покрывала толстая корка. Он не мог лежать и практически не мог сидеть. Другой командир роты обер-лейтенант Финдайзен слыл невиданным оригиналом. Его ранили уже пять раз, но всякий раз пули каким-то чудом проходили рядом, не задевая жизненно важных органов. В последней переделке ему вышибло шесть зубов. И теперь голова обер-лейтенанта распухла до размеров внушительной дыни. Когда он говорил, создавалось впечатление, будто он выдувает слова через трубку.
Бройер поблагодарил обер-лейтенанта Шульца, отправил румына за товарищами, швырнул в угол пожитки и, последовав приглашению, опустился на край скамейки. Когда он рассказал про Дирка, присутствующие громко загалдели. Никто и не думал, что тот еще жив.
– Ну дела, – проквохтал беззубый обер-лейтенант Финдайзен. – Я сегдо ховорил, соряк с конем не выденешь.
Ему ли этого не знать. От Гумрака до Сталинграда он, минуя русские танки, протопал один пешком, при этом нес в ноге осколок и пулю.
– Бройер, скажите нам честно! – обратился к нему капитан Айхерт. – Скажите как старый штабист, что вы думаете про все это дерьмо?
Сбивчиво и невнятно Бройер изложил события последних дней.
– Вот видите, мне, пожалуй, известно меньше вашего, – заключил он. – Но если хотите услышать мое скромное мнение, то вот оно: все кончено. Туши свет!
Капитан Айхерт схватился руками за голову.
– Мы, во всяком случае, выжаты до последней капли, это точно, – подытожил он. – Не представляете, что нам пришлось пережить! Все подвалы в округе забиты людьми. Бывалые и еще совсем свеженькие, с легкими ранениями и тяжелыми – кого тут только нет. И все эти люди дошли до ручки. Никто уже не способен воевать… И тем не менее, Бройер, я по-прежнему отказываюсь верить, что это конец. Такого отродясь не бывало, чтобы целая армия погибла ни за грош! Больше скажу… Мы каждый божий день слышим сводку вермахта. Слышим, как там беспрестанно твердят об успешных контратаках. Дескать, рано терять надежду, вот увидите, они еще выкрутятся! Вы только вспомните, какие дела мы проворачивали в Бельгии или во Франции! На Чире высадились десантники, пара дивизий, и мост там есть! Взгляните вот, Паулюс никогда бы не написал этих слов, не будь надежды!
Бройер взял листок, который протянул ему капитан. И прочел:
“Все мы знаем, что нам грозит в случае, если армия прекратит сопротивление. Большинству уготована верная смерть, если не от вражеской пули, то от холода и голода или от грубого обращения в сибирских лагерях для военнопленных. А поэтому остается только одно: сражаться до последнего патрона”.
И далее:
“Мы по-прежнему твердо надеемся на скорое освобождение, которое уже не за горами”.
Бройер поднял недоуменный взгляд, потом снова посмотрел в приказ. Там стояла дата: 20 января 1943 года…