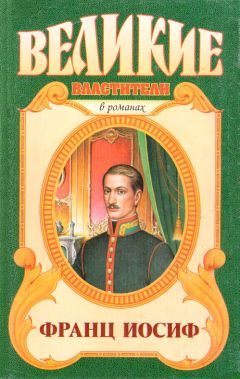Николай Гейнце - Современный самозванец
Она уезжала – это было ему надо, а до остального ему было безразлично.
Он оделся и поехал устраивать денежные дела.
С курьерским поездом железной дороги он проводил когда-то любимую им женщину.
Когда поезд ушел, Николай Герасимович облегченно вздохнул полной грудью.
XXIII
Под крылом друга
«Это, положительно, несчастное отделение, – думал Савин, возвращаясь с Николаевского вокзала в „Европейскую“ гостиницу, – Сегодня же прикажу себе отвести с завтрашнего дня другое…»
Несмотря на то, что перед ним в радужных красках развертывалась перспектива обладания «неземным созданием», этой девушкой-ребенком, далекой от греха страсти, – последняя, впрочем, он был убежден, таилась в глубине ее нетронутого сердца, – разлука с Мадлен и ее последние слова: «Adieu, Nicolas», – как-то странно, казалось ему, прозвучавшие, оставили невольную горечь в его сердце.
Ему почудилось, что с отъездом этой женщины внутри его что-то порвалось, но его живой, подвижной характер не дал ему долго останавливаться на этом впечатлении, и оно, так сказать, вырвалось наружу лишь в мелькнувшей у Николая Герасимовича мысли:
«Это, положительно, несчастное отделение…»
По приезде в гостиницу он тотчас же отправился в контору и, на его счастье, оказалось, что утром только что очистилось отделение, хотя несколько менее занимаемого им, но зато уютнее и свежее меблированное. Так, по крайней мере, объяснил ему управляющий гостиницы.
Приказав с завтрашнего же утра считать освободившееся отделение за собою и утром перенести все вещи из занимаемых им комнат, Николай Герасимович поднялся наверх.
Лакей отпер занимаемое им помещение, зажег лампу перед диванным столом гостиной и удалился.
Николай Герасимович остался один. Впечатление какой-то странной пустоты производило на него это, в сущности, тоже уютное и роскошно меблированное отделение.
Это впечатление наблюдается тогда, когда возвращаются в квартиру, из которой только что вынесли покойника, близкие ему люди.
Все, кажется, стоит на своем месте, ни одной вещью не убавилось, а, в общем, чего-то нет, чего-то такого, что, независимо от присутствия вещей, казалось, наполняло все помещение.
Нет человека.
Это сравнение своего положения с положением человека, возвратившегося с кладбища, пришло в голову Савина под нахлынувшим на него впечатлением окружающей его пустоты.
С Мадлен де Межен он больше никогда не увидится. Ему вдруг стало как-то особенно жаль ее.
Он прошел в комнату, служившую ей будуаром. Там, хотя все было прибрано расторопными слугами образцовой гостиницы, не взгляд Савина как раз упал на лежавший на ковре обрывок голубой ленточки.
Он вспомнил, как замечательно шел Мадлен де Межен голубой цвет.
Ее образ, блестящий, обаятельный, предстал перед ним. Она, как живая, сидела перед ним здесь, на этом самом кресле, около которого валялся этот обрывок ленты, но не та Мадлен, какой она была за последнее время, а та, которую он помнит в Париже, и от одного присутствия которой у него кружилась голова, мутилось в глазах.
Он не понимал, что она осталась такою же, а изменился он сам, его взгляд на нее, и теперь восторженно вспоминал о той, разлуке с которой был рад несколько часов тому назад, как освобождению из душной тюрьмы.
Сердце его сжималось чисто физической болью.
Он поднял обрывок ленты и как-то совершенно неожиданно для себя самого стал покрывать его поцелуями.
Это, впрочем, продолжалось лишь несколько минут.
«Что за ребячество!» – остановил он самого себя, подошел к окну, раскрыл форточку и бросил ленточку на улицу, а сам все-таки несколько времени простоял около этой открытой форточки, тяжело дыша, как бы набираясь воздухом.
«Боже, как, однако, я распустил свои нервы», – подумал он и стал ходить по комнате.
Перед ним снова начали проноситься картины прошлого, связанные именно с этим отделением «Европейской гостиницы».
Он вспомнил Маргариту Гранпа.
Кстати ему пришел на память разговор о ней, слышанный им у графа Стоцкого. Он и теперь, как тогда, почувствовал, как больно сжалось его сердце. Думал ли он, что девушка, на которую он положительно молился, будет когда-нибудь предметом такого разговора?
«И все женщины таковы, – мелькнуло у него в голове. – И Вера…»
Он постарался остановить эту мысль.
«Завтра она будет со мною, это нежное, эфирное создание, все сотканное из мечты. Завтра я осыплю ее страстными поцелуями, завтра она, робкая, трепещущая, будет в моих объятиях, ее маленькое сердечко будет биться около моего сердца».
Эта перспектива близкого блаженства заставила забыть Николая Герасимовича и прошлое, навеянное этим отделением гостиницы, с Маргаритою Гранпа в его центре и уехавшею Мадлен.
«Мне еще сегодня надо к графу, окончательно условиться», – спохватился он и позвонил.
Явившемуся лакею он приказал дать себе пальто и шляпу.
– Постели мне в кабинете, – приказал он и вышел.
Мысль провести ночь в спальне, где кровать Мадлен была бы перед его глазами, как надгробный памятник погибшей любви, все же была ему неприятна.
«Завтра все пройдет!» – успокоил он себя.
Граф Сигизмунд Владиславович был дома.
Он сидел у себя в кабинете и с легкой усмешкой наблюдал за Иваном Корнильевичем Алфимовым, нервною походкой ходившим по комнате.
Николай Герасимович Савин оказался положительным пророком в начертанном им плане.
Граф Стоцкий действительно убил разом двух, и очень крупных, зайцев, оказав услугу Алфимову-отцу и не возбудив ни малейших подозрений в Алфимове-сыне, который оказался всецело в его руках.
Прямо от судебного следователя Иван Корнильевич поехал к графу Стоцкому.
Тот только что встал, когда резкий, непрерывающийся электрический звонок, раздавшийся в квартире, заставил его воскликнуть:
– Кого это черт несет спозаранку?
Через минуту это недоразумение разрешилось. Перед ним стоял бледный, с блуждающим взором воспаленных, заплаканных глаз молодой Алфимов.
– Что с тобой? – воскликнул, казалось, с неподдельным испугом граф Сигизмунд Владиславович.
– Все кончено, – скорее упал, нежели сел в кресло Иван Корнильевич и, закрыв лицо руками, зарыдал.
– Что такое? Что такое? Расскажи! В толк не возьму…
– Все кончено… Я сознался…
– Кому? В чем?
– Следователю.
– Следователю? Ужели отец… Корнилий Потапович…
– Он меня выгнал.
– Значит, он не жаловался?
– Нет.
– А капитал?
– На него я получу чек.
– И сколько у тебя?
– Восемьсот с чем-то тысяч.
Граф Сигизмунд Владиславович энергично плюнул.
– Дурак!
Это далеко не лестное обращение по его адресу заставило молодого Алфимова поднять голову.
– Что такое, дурак…
– Дурак, значит дурак! – со смехом отвечал граф Стоцкий.
– Я не понимаю…
– И не мудрено, потому что ты дурак…
– Объяснись.
– Чего тут объяснять… У него состояние почти в миллион, он распустил нюни… Я думал, что он, по крайней мере, прижмет тебя и заставит отдать половину, чтобы не возбуждать дело… И отдал бы…
– Отдал бы… – как эхо повторил Иван Корнильевич.
– То-то и оно-то… А тут все-таки благополучно кончилось, а он ревет…
– Хорошо благополучно, на мне тяготеет проклятие матери…
– Бабьи сказки…
Уверенный тон графа Сигизмунда Владиславовича, с которым он разбивал все доводы молодого Алфимова, подействовал на последнего ободряюще, и он начал обсуждать свое будущее.
– Ну куда же мне деваться?
– Как куда?
– Отец приказал сегодня же выехать из его дома.
– Эка невидаль… У тебя теперь деньги есть?
– Тысячи четыре найдется.
– Так о чем же думать… Против меня дверь об дверь освободилась на днях квартира, сними и переезжай.
– Вот это хорошо, очень хорошо. Но как же без мебели?
– О, ты, простота… Мебель поставит мебельщик. Я сам это тебе устрою, а ты поезжай домой, забирай свои собственные пожитки и переезжай пока ко мне. Завтра квартира будет готова, и мы справим такое новоселье, что чертям тошно будет… Не забудь заехать за чеком… А теперь… пойди умойся, а то лицо заплаканное… точно у бабы, а я прикажу позвать старшего дворника.
Граф позвонил и отдал явившемуся слуге распоряжение, а Иван Корнильевич последовал совету своего ментора и, умывшись, вместе с ним вошел в кабинет.
С явившимся старшим дворником дело было сделано в пять минут, он получил плату за месяц вперед и объяснил, что квартира вся вычищена и приведена в порядок.
– Хоть сегодня извольте переезжать, – сказал старший дворник.
– Сегодня и переедут, – заметил граф Стоцкий.
Дворник ушел.
– Ну, теперь поезжай домой, заезжай за чеком и переезжай ко мне, а я оденусь и пойду к мебельщику… Ты полагаешься на мой вкус? В грязь лицом не ударю.
– Конечно, полагаюсь… У тебя бездна вкуса, я это знаю.
– Почему же ты знаешь?