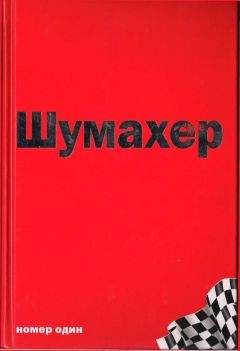Umberto Eco - Имя розы
Я посмотрел в лицо учителю. «Вы смеетесь?» – растерянно сказал я.
«Ты полагаешь, что над такими вещами смеются?» – ответил Вильгельм.
Бернард перешел к допросу Сальватора. И перо мое бессильно воспроизвести те обрубленные – и, если можно это себе представить, еще более вавилонские – подобия слов, которые вырывались у этого жалкого человека, давно уже сломленного, а ныне доведенного до состояния бабуина. Мало что можно было понять в его лепете, и Бернард помогал ему, задавая такие вопросы, что тому оставалось отвечать только да и нет, отвечать одну правду, не надеясь ничего скрыть. Что мы услышали – читатель легко может себе представить. Он рассказал (вернее, подтвердил, что рассказал инквизитору накануне ничью) часть той истории, которую я еще раньше восстановил из отрывочных сведений. О своих скитаниях с полубратьями, пастушатами, лжеапостолами. О том, как во времена брата Дольчина повстречался с Ремигием – одним из дольчиниан. Как вместе с ним спасся после битвы на горе Ребелло и, пройдя многие мытарства, прибился к Казальскому монастырю. К этому он добавил, что ересиарх Дольчин, чуя близкую свою поимку и погибель, вверил означенному Ремигию кое-какие грамоты, чтоб тот передал их, а куда, кому – Сальватор не знает. А Ремигий хранил те грамоты при себе и не решался передать по назначению. А когда стал жить в здешнем монастыре – он, боясь хранить документы у себя, но не желая и уничтожить, передал их на хранение местному библиотекарю, а именно Малахии, чтобы тот спрятал их где-нибудь в тайниках Храмины.
Пока Сальватор рассказывал, келарь с ненавистью глядел на него, а в какую-то минуту не смог удержаться от крика: «Гадина, обезьяна похотливая, я был тебе отцом, другом, порукой, и вот как ты за это отплачиваешь!»
Сальватор посмотрел на покровителя, ныне такого беззащитного, и через силу ответил: «Господине, будь как раньше, я твой. А тут, знамо, острог. Кто без коня, иди пеш».
«Дурак! – закричал на него Ремигий. – Думаешь, спасешься? Ты что, не понял, что и тебя казнят за ересь? Скажи быстро, что тебя пытали, скажи, что ты все придумал!»
«Мне почем знать, какой где толк. Раскол, патарен, сорочин, леонист, арнальднст, сперонист, обрезан. Все одно. Я не учен, ничего не знал, грешил не со зла, господин Бернард милостив и благ. Будет отпускать, во имя Отца, Сына и Духа Святаго…»
«Мы имеем право выносить оправдание исключительно в тех случаях, когда это предусматривается законом, – сказал инквизитор. – И при вынесении приговора мы с отеческой благожелательностью намереваемся сопоставить все обстоятельства и принять во внимание то, с какой степенью добровольности подсудимый содействовал ходу расследования. Иди, иди, возвращайся в камеру и поразмысли, и помолись о милосердии Господнем. Теперь нам предстоит разобраться в некоторых фактах совершенно другого периода. Значит, как выясняется, Ремигий, ты принес на себе грамоты Дольчина и передал их собрату, в ведении которого была монастырская библиотека».
«Неправда, неправда!» – крикнул келарь, как будто подобная защита могла еще иметь какой-то смысл. И вполне логично, что Бернард оборвал его: «Не от тебя требуется подтверждение, а от Малахии Гильдесгеймского».
Вызвали библиотекаря, которого не было среди присутствующих. Я догадывался, что он либо в скриптории, либо в больнице, ищет Бенция и книгу. За ним пошли, и когда он появился в зале, нахмуренный, старающийся ни с кем не встречаться глазами, Вильгельм пробормотал с досадой: «Ну вот, теперь Бенций свободен делать все, что хочет». Однако он ошибался, так как немедленно вслед за этим я увидел, как физиономия Бенция высовывается из-за плеч столпившихся монахов, забивших собою все входы в залу, чтоб следить за допросом. Я показал его Вильгельму. И мы оба решили, что любопытство к небывалому происшествию пересилило в нем любопытство к неведомой книге. Только потом мы узнали, что несколькими минутами прежде он все-таки успел заключить низкопробнейшую сделку.
Малахия вышел и стал перед судьями, стараясь не встречаться глазами с келарем.
«Малахия, – обратился к нему Бернард, – сегодня утром, ознакомившись с признаниями, полученными ночью от Сальватора, я задал вам вопрос, получали ли вы от присутствующего здесь обвиняемого грамоты…»
«Малахия! – вскричал келарь. – Ты сейчас поклялся, что не будешь вредить!»
Малахия почти не повернул головы к подсудимому, хотя тот стоял у него за спиной, а только покосился и ответил так тихо, что даже мне было почти не слышно: «Клятву я не нарушаю. Все, что могло тебе повредить, было сделано раньше. Грамоты были переданы господину Бернарду рано утром, до того как ты убил Северина».
«Но ты знаешь, ты-то знаешь, что я не убивал Северина! Ты знаешь! Потому что ты был там еще раньше!»
«Я? – переспросил Малахия. – Я вошел, когда тебя уже поймали».
«И в любом случае, – перебил Бернард, – что ты искал у Северина, Ремигий?»
Келарь обернулся и растерянно посмотрел на Вильгельма, потом на Малахию, потом снова на Бернарда: «Но я… я услышал, как утром брат Вильгельм… здесь присутствующий… просил Северина сохранить какие-то документы… а я со вчерашней ночи, с тех пор, как схватили Сальватора, думал, что эти грамоты могут выплыть…»
«Ага, значит, ты все-таки кое-что знаешь об этих грамотах!» – торжествующе выкрикнул Бернард. Келарь понял, что попался. Его зажали между двумя угрозами: обвинением в ереси и обвинением в убийстве. По-видимому, от второго обвинения он решил отбиться во что бы то ни стало и теперь вел себя бестолково и безрассудно:
«О грамотах потом… Я все объясню… Расскажу, как они ко мне попали… Но сперва дайте я расскажу, как было дело сегодня. Я боялся, что эти грамоты всплывут. Боялся с тех пор, как Сальватор попал в руки господина Бернарда. Вот уже много лет мысль об этих грамотах мучает меня. И когда я услышал, что Вильгельм с Северином сговариваются о каких-то документах… Ну, не знаю… Какой-то страх завладел мной. Я подумал, что Малахия, наверно, избавился от них и передал Северину. Я решил, что их надо уничтожить. И пошел к Северину. Двери были открыты. И Северин лежал уже убитый… А я стал шарить в его вещах и искать документы… Я был вне себя от страха…»
Вильгельм прошептал мне на ухо: «Глупец несчастный. Испугался одной ловушки и полез прямо в другую».
«Предположим, ты сейчас почти не лжешь, – заговорил Бернард. – Я подчеркиваю: почти. Ты думал, что грамоты у Северина, и искал их у него. А с чего ты взял, что они у него? И зачем ты убил до него других собратьев? Может, ты думал, что эти воровские грамоты уже давно гуляют по аббатству? Может, в этом монастыре принято гоняться за реликвиями сожженных еретиков?»
При последних словах Аббат подскочил, как от удара. Не существовало более страшного обвинения, чем в хранении реликвий еретиков. А Бернард, похоже, очень ловко собирался приплести убийства к еретической деятельности и все вместе – к обстановке в монастыре… Из раздумий меня вывел жуткий вопль келаря, уверявшего, что он не имеет никакого отношения к предыдущим убийствам. Бернард снисходительно оборвал его: пока что рассматривается другое дело. Предъявлено обвинение в еретической деятельности, и пусть келарь не хитрит (тут голос Бернарда зазвучал совсем зловеще) и не пытается отвлечь внимание от собственных еретических происков, кивая на покойного Северина или спихивая вину на Малахию. Так что вернемся к вопросу о грамотах.
«Малахия из Гильдесгейма, – обратился он к свидетелю. – Вы вызываетесь не как обвиняемый. Сегодня утром вы дали исчерпывающий ответ на мои вопросы и пошли мне навстречу, не пытаясь ничего замалчивать. Теперь повторите при всех свои показания – и вам нечего будет опасаться».
«Повторяю то же, что сказал утром, – начал Малахия. – Вскоре после поступления в наш монастырь Ремигий взял на себя заботы о кухнях. У нас установились регулярные служебные взаимоотношения. Поскольку я, как библиотекарь, отвечаю за ежевечернюю подготовку Храмины к ночи, я, естественно, запираю и кухню… Не вижу причин скрывать, что мы с Ремигием по-братски сдружились. Точно так же не видел я причин подозревать его в чем-либо дурном. В ту пору он и рассказал мне, что хранит некие документы секретного содержания, доверенные ему исповедавшимся. И сказал, что эти документы не должны попасть в руки непосвященных, и что потому опасно ему держать их при себе. Поскольку я имею доступ в единственное здесь помещение, недоступное для остальных братьев, он попросил меня взять на хранение эти документы и поместить там, вдали от любопытных взглядов. И я согласился, никак не предполагая, что документы могут носить еретический характер… Не читая, я отнес их в… ну, в самый закрытый из тайников библиотеки. И с тех пор не вспоминал об этом. Не вспоминал до сегодняшнего утра, когда от господина инквизитора поступил запрос на эти документы. Тогда я пошел за ними и передал их в его руки…»