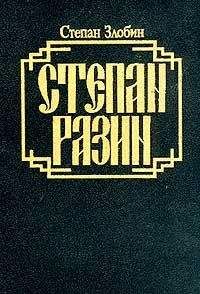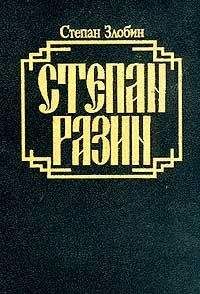Степан Злобин - Степан Разин (Книга 2)
Одоевский ничего не смел решить сам, и хотя царь присутствовал в башне тайно, он ждал царского слова.
– Пусть говорит, – смятенно пробормотал царь.
– Сказывай, вор! – приказал Одоевский.
– Не тебе, пес, – царю, – сказал Степан. – Спусти дыбу, палач. Выше бояр – мне по чину, а выше царя – невместно!..
Палач растерялся. В первый раз в жизни видел он человека такой непреклонной силы.
– Спусти, – едва слышно сказал царь.
Раскидав под дыбой горящие угли, палач спустил Разина. Ноги его коснулись кирпичного пола.
– Сказывай, что хотел, – приказал Одоевский.
– Бояр побивал, города воевал – о тебе, государь, я все мыслил, – сказал Степан. – Теперь одолели меня, на Москву везли – и вся думка была о тебе. Думал, бояре сокроют тебя, так до смерти и не увижу. Да милостив бог и привел! Для тебя одного я берег мою тайность. Другим ее не разуметь: на Дону, на восход от Черкасска, в степу есть роща дубова, за той рощей сызнова степ, а в степу... дудаки пудовы... Поезжай потешься, да главная тайность в том, что бери их не кречетом, а холзаном-птицей трави!
– Заплечный! Тяни! – крикнул Одоевский, поняв издевательство над царем. – Скажешь, ты, вор, каково «государево дело» хотел молвить! – хрипел он Разину.
– Нашего царя дело едино: пташек травить – в том он смыслит! – глумливо сказал Разин.
– Кнута! – не выдержав, взвизгнул царь.
Он подскочил сам к Степану; крепко вцепившись, выдернул клок его бороды, бросил на пол и стал исступленно топтать ногами.
Страшные удары кнута снова рушились на спину Разина. Но, теряя сознание, он не сдался и прошептал прерывающимся голосом:
– Запомни, царь... азиатская... птица... холзан...
Конец великого канцлера
Всю жизнь расчетливый, выдержанный и спокойный, Ордын-Нащокин на глазах всех знавших его начал быстро стареть, сделался вспыльчивым, раздражительным, никому в приказе не спускал малейшей описки, рвал на клочки подаваемые на подпись бумаги и разгонял подьячих. Он вдруг увидал со всей ясностью, что постоянные разъезды в посольствах оторвали и отдалили его от царя. Без него царь нашел себе нового друга: с каждым днем завоевывал все большую силу, все большее доверие государя Артамон Сергеевич Матвеев. Почувствовав, что прежнего отношения царя не вернуть, Ордын-Нащокин утратил и прежнюю уверенность, которая всю жизнь давала ему силы для борьбы с нелюбовью дворянской знати...
Дьяки и дворяне в приказе тоже почуяли эту перемену в положении своего начальника. В последний раз, когда Афанасий Лаврентьевич был в Польше для переговоров об утверждении Андрусовских мирных статей, в грамоте, присланной ему из приказа Посольских дел, его наименовали просто боярином, пропустив знаменитый титул – «большой государственной печати и великих тайных посольских дел оберегателя». Ордын-Нащокин прислал оттуда царю раздраженное письмо с жалобой на своих собственных подчиненных, на неправды и нелюбовь окружающих. Царь его даже не захотел успокоить и ограничился только тем, что приказал отослать ему новую грамоту – с титулом.
Это последнее посольство было завершено блестяще. Никто даже не мог ожидать, что ему так твердо удастся отстоять занятую позицию и удержать на вечные времена в русских руках «матерь русской державы и веры Христовой» – Киев. И, несмотря на такие великие и успешные труды, по возвращении в Москву Ордын-Нащокин даже не сразу был принят царем. От обиды слезы сжимали горло боярину. Он старался себя утешить тем, что государю сейчас недосуг, что его тревожит казацкий мятеж, который пылает на Волге. Однако Ордын-Нащокин вскоре узнал, что государь собирается сочетаться браком ранее полного умиротворения государства. Как государственный муж, Афанасий Лаврентьевич считал, что это разумный шаг, потому что царская свадьба покажет всем, что трудности миновали, и отвлечет внимание от мятежа, которому в чужих государствах уделяли в последнее время слишком большое внимание...
И вот в январе была в самом деле назначена царская свадьба. Афанасий Лаврентьевич был приглашен в числе гостей со стороны высокого жениха. Но за все время празднества государь не обмолвился с ним лишним дружеским словом и только поговорил на ходу о самых неотложных посольских делах.
«Как ни дружи с Артамоном, а в великих делах государства все ж – к Афанасию! То мой и удел, – со злостью подумал Ордын-Нащокин. – Кто, как я, соблюдет государство от происков иноземных и в посольских, и в ратных делах, и в торге, и в чести!..»
Дома Ордын-Нащокин перебирал старинные царские письма, полученные им в бытность в посольствах, когда, по несогласию с остальными послами и по дружбе с царем, «великий канцлер», как называли его иноземцы, помимо приказа переписывался с самим государем.
«Друг ты мой Афанасий Лаврентьич! Письмецо твое бесценное и разумное получил. Твори, друг, твоим разумением, как сердце и ум велят. А Тараруя, Хованского Ваньку я сам избраню за твою обиду. Дурак дураком, что родом чванится безо всякого разумения! А ты на дурацкую голову не гляди, твори по себе с божьей помощью. Ты всех родовитых вместе один во всем стоишь...» – перечитывал царское письмо грустный боярин. В последний год царь уже не писал ему больше подобных писем...
После женитьбы царя на Наталье Нарышкиной Артамон Сергеевич, ее воспитатель, через родню государыни сделался свойственником царя. При встречах с ним Афанасий Лаврентьевич держался с ласковым дружелюбием, ни в чем не обнаруживая ревности, зависти, неприязни. Афанасий Лаврентьевич даже позвал его побывать у себя в гостях. Матвеев благодарил за честь, словно давно с нетерпением ждал приглашения боярина, и, не заставив долго себя упрашивать, доказал свою искреннюю радость на деле, тотчас собравшись приехать.
Ордын-Нащокин так близко наедине со своим соперником встретился в первый раз; при этом он был поражен умом и обходительной тонкостью Артамона. За обедом они говорили обо всех самых важных и самых живых делах, говорили об устроении государства, о будущем русской державы. И дивно: насколько многое во взглядах их было сходно!..
Военный человек, полковник войск иноземного строя, Артамон рассуждал свободно о том, что стрелецкое войско, как и дворянское ополчение, в его прежнем виде уже не может служить обороной отечеству, что надо все перестроить на новый лад, обучая войско по иноземному строю.
– На мятежные скопища мужиков и то Стрельцы были слабы, а дворянское ополчение пригодилось только расправы чинить после того, как мятежники клали ружье. Едино лишь нового строя войско пригодно к сражениям, – говорил Матвеев. – Не потому говорю, что сам я служил в полках иноземного строя, не потому, боярин. А кто разбил разинские полки? Юрий Барятинский. У Юрья Никитича сплошь было новое войско. Без него бы во веки веков не осилить воров, а с иноземными биться и паче!..
– Иноземному войску цена высока, Артамон Сергеич, – возразил Афанасий.
– Я не о том говорю, Афанасий Лаврентьич. Не рейтар нанимать. Иноземцы себя оправдают разве в одном: с мятежными биться – русской крови они не жалеют. А оборону наемною сволочью нам не держать. Ее лишь солдатским войском крепить. Сколь мужики ни мятежны, а для отечества не сыскать обороны сильнее, чем русский мужик, да учить его ратному делу надо на иноземный лад. Много мир возлюбили мы, русские люди, ан забыли, что не с овцами, а в волчьей стае живем: не наточим зубы – сожрут с потрохами, ради нашей земли изобилья. Ото всех поотстали мы – от голландцев и шведов. А нам ведь со шведами биться не миновать!
– Не миновать! – оживленно воскликнул Ордын-Нащокин.
– Ан зубы у них вострей на суше и на море, – продолжал Артамон. – И нам от них перенять надо много, тогда их побьем. Не то нам сидеть без моря, как и доселе сидим.
«Разумница», – сказал про себя боярин, почуяв единомышленника.
Они заговорили о грамотности, о науках. Оказалось, что Артамону и в этих делах приходили мысли, подобные мыслям Ордын-Нащокина: он говорил, что нужно издать закон, по которому обучение грамоте должно стать обязательным для всех торговых и служилых людей.
– Срамно видеть русскому человеку у кормила державного, в государевой Думе, древних родом и знатных, кои аза не ведают и припись свою под приговором Думы поставить не разумеют!
– Ныне уж родовитых спесь под лопату глядит, Артамон Матвеич, – согласился Ордын-Нащокин. – Родовитости с разумом не тягаться! Дал бог Руси великого и разумного государя, который в ближних своих не древности рода ищет, а разума, – намекнул он на общую их незнатность и в то же время на общую близость к царю.
– И в приказных, и в людях торговых разумные головы есть, кои не хуже способны вершить державное дело, да велика нелюбовь к таким людям бояр. Хованские, Долгорукие да Голицыны не хотят уступить места в торге. А дай только волю русским купцам – сколь пользы они принесут державе! Бояре так промыслов не устроят, как бы наладил купец, а нет ему подлинной воли! Оттого иноземный купец всюду нашего давит, что бояре корыстью сами хотят с иноземцами торговать...