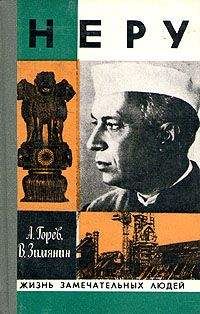Теодор Парницкий - Серебряные орлы
Аарон бессильно упал на скамью.
— Иоанн Феофилакт — папа?! — еле выдавил он, так сжалось у него сердце от безграничного и радостного удивления. От удивления и надежды. Значит, он вернется в Рим! Тот, кто явился ночью к одинокому Сильвестру в дни самого большого унижения, не отвергнет любимца Сильвестра в дни его славы и могущества!
Но радостные надежды тут же развеялись.
— Дядя и я очень изменились, но Рим похож на тебя, отец Аарон: но меняется. По-прежнему изгоняет каждого достойного наместника Петра. И дядю изгнали римляне. Но я не тужу, вернется! Вернется, как Григорий Пятый. Такие всегда возвращаются.
Установилась минутная тишина. Тимофей стал прохаживаться, шурша переливающимся епископским облачением. Аарон следил за ним все еще изумленным взглядом, полным радостного восхищения.
По вдруг он опустил глаза к полу.
— А что с ней?
— С кем?
— С Феодорой Стефанией, — прошептал он, с трудом переводя дыхание.
Тимофей снисходительно, но не ехидно улыбнулся.
— Нашлись ревностные советчики, которые советовали дяде, — сказал он небрежно, — чтобы он велел удушить ее в темнице. Но святейший отец сказал: «Без мужа и сынка эта стареющая женщина не опасна. — Ответил мудро и милосердно: — Пусть живет, пусть пользуется покоем и свободой». Мы, тускуланцы, не изощряемся в жестокостях. Мой предшественник в Познани германец Унгер каждую девицу, которую ловили на том, что она бросает венки в Варту, тут же приказывал сажать на кол. Я же таков девице приказываю на год удалиться в лес. Если волки не съедят, если с голоду не умрет, пусть через год спокойно возвращается под родительский кров; еще стараюсь, чтобы какой-нибудь княжеский воин, из тех, что самый набожный, взял ее за себя. Уж он-то отучит ее от языческих обрядов.
Аарон вздохнул:
— Как же не завидовать тебе, Тимофей? Сбылись твои мечты, казалось бы такие недосягаемые. Мощью епископского помазания борешься с демонами славянских земель!
Тимофей потянулся. Потерся пухлым лицом о левое плечо.
— Это так. Все сбылось. Даже больше, чем мечтал.
Громко шурша облачением, поспешно подошел он к Аарону. Золотым епископским крестом почти коснулся бедной, монашеской одежды.
— Помнишь, — воскликнул он, — как Экгардт издевался, что славяне ездят на палочке, думая, что сидят на копе? Так вот, когда я предстал перед Болеславом, я сразу выпалил ему это. А он насмешливо прищурил холодные, светлые глаза и говорит: «Что же ты хочешь, чтобы я с тобой в Рим на посеребренной палочке поехал? Подожди, останься со мной, я отяжелел, неподвижен стал: поможешь мне, римлянин, на коня пересесть. А там и поедем».
— И поедете?
Гордой, несокрушимой уверенностью загремел голос Тимофея, когда он ответил:
— Поедем. Вот увидишь. Уже сейчас на лошадиную спину садимся, только перед саксами прикидываемся, что все еще на палочке скачем.
— И скоро поедете? Надо торопиться. Рихеза подгоняет, ей скорей надо в Петровой базилике с Беспримом первородным сочетаться, от крови Болеслава Оттонова наследника, Цезаря Августа родить.
Тимофей засмеялся:
— Не за Бесприма — этот хоть и первородный, но глуп, варвар, а вот за Мешко, красавца и ученого, выйдет государыня Рихеза. Но не думаю, что в базилике Петра. И не в Риме родит она наследника крови Болеслава, Оттона и базилевсов, а в Познани или в Кракове. С поездкой в Рим придется ей подождать.
— А согласится ли? Она же твердит: в Риме, только в Риме.
— Для того я и прибыл, чтобы согласилась.
Рихеза долго не соглашалась. Со слезами гнева и попранной гордости кричала, что никогда-никогда не позволит унизить свое звание римлянки. Наследница Оттона лишь во всемирном городе скажет славянскому князю по древнеримскому обычаю: «Где ты, Кай, там и я, Кайя», только в Риме зачнет сына, будущего Цезаря Августа. Были моменты, когда она так упиралась заходила в этом так далеко, что заявляла, что не надо ей ни Мешко, ни Бесприма, — уйдет в монастырь по примеру теток Софии и Адельгейды — слишком еще девичье у нее тело, чтобы зачинать и рожать. Аарон давно бы уже сдался и отступил. Но Тимофей был неутомим. Целые дни проводил в совещаниях с Матильдой, с Герренфридом, с Герибертом, как-то даже ошеломил и Рихезу и Аарона неожиданным заявлением, что обручение с Мешко состоится в день сошествия святого духа в Мерзебурге — таково окончательное пожелание благороднейшего Генриха, короля Германии и Италии, а в недалеком будущем и Римского императора, воле которого не может противиться ни Герренфрид, отец Рихезы, ни Болеслав, поскольку они являются послушными ленниками Генриха.
Аарон подумал, что Тимофей просто сошел с ума. Рихеза прошипела сквозь зубы:
— Изменник! Жалкий прислужник саксонских варваров!
Познаньский епископ чуть побледнел, по тут же улыбнулся и принялся, казалось, вроде небрежным, а на самом деле очень решительным тоном объяснять, что война между Генрихом и Болеславом идет к концу, что Мешко уже гостит у короля, что с ним идут переговоры, но Болеслав не заключит с Генрихом мира, не вложит свои руки в королевские, если сын его не получит как можно быстрее Оттоновой племянницы.
Рихеза, с трудом сдерживая рыдания, побежала к матери, к отцу, потом к Гериберту. Архиепископ искренне огорчился этим известием, но сказал, что Болеслав — патриций империи, любимый друг Оттона Третьего и если он что-то решает, то всегда это самое мудрое решение. Матильда шепнула:
— Святейший отец хочет надеть императорскую диадему на Генриха, значит, мы должны быть послушны его воле.
Долго еще потом шептала она что-то на ухо дочери: по мере того, как говорила, все больше прояснялось лицо Рихезы.
Герренфрид прямо сказал дочери:
— Генрих нынче очень силен, Болеслав же останется таким же сильным, как и был. Раз эти двое договорились между собой, что значим мы?
Рихеза топнула ногой:
— Ты слишком медленно думаешь, государь мой отец. Болеслав не заключит с Генрихом мира, пока Мешко меня не получит, так сказал епископ познаньский. Так что если не отдашь меня Мешко, не договорятся Генрих и Болеслав и не будет мира.
— Зато ты думаешь быстро, но глупо, дочь моя. Генриху необходим сейчас мир с Болеславом, необходим! Чтобы заключить его, он отберет тебя у меня, чтобы передать Мешко, силой заберет. Но смотри: тогда он заберет не только тебя, а и заберет у меня лотарингское княжество, с него станется!
Рихеза проплакала всю ночь и последующий день. Вечером же ее исповедал прославленный клюниец Рихард, верденский аббат. Исповедовалась она долго. Причастившись же, заявила Тимофею, что, раз такова воля ее отца и короля, она отправится в Мерзебург, чтобы сочетаться там браком с Мешко, сыном Болеслава, королевского ленника.
— И вот ты опять добился чего хотел! — сказал Аарон Тимофею.
Тимофей потянулся. Вновь потерся пухлой щекой о плечо.
— Да, — сказал он, — именно того, чего хотел.
И вновь Аарон опустил глаза.
— Позволено ли будет мне, господин епископ, — прошептал он, — сказать такое слово, какое бы мне хотелось сказать Тимофею, долголетнему моему другу?
— Разумеется, милый брат, говори, говори! — живо воскликнул Тимофей.
— Раз господин епископ позволяет, скажу. А ты, Тимофей, никогда не думал над тем, что всему, чего ты добился, ты обязан Феодоре Стефании? Разве не она направила необразованного тускуланского подростка на путь, который привел его к епископскому престолу?
— Великая мудрость, глубокая мудрость гласит устами мужа, который справедливо, как никто иной, был удостоен милости Герберта-Сильвестра, мудреца из мудрецов, — прошептал Тимофей с восхищением и растроганностью. — В одном только ошибаешься, Аарон, брат мой милый. Женщина, о которой ты говоришь, не вывела меня на поистине дивный путь, а лишь толкнула на него, толкнула, не ведая того, случайно. Так что я обязан ей не благодарностью, а лишь доброжелательным воспоминанием. И искренне был рад, когда дядя мой, святейший отец, не склонил слух к подстрекательствам злорадцев, а позволил этой женщине пользоваться свободой и покоем. — И улыбнулся. — Помнишь, отец Аарон, как ты меня исповедовал? Как же я боялся, а не грешу ли чрезмерной гордыней, гордостью своими силами, способными сопротивляться вожделению? Но я знал тогда, что говорю. Не легкомысленно уверовал я в чудесную силу, которая из тускуланского неученого парня сделала епископа, ученого человека, доверенного советника Болеслава, могущественного и прославленного повелителя. Никогда ничем я не осквернил этой силы, всегда верен ей. И мне хорошо с нею. Никакой соблазн даже снов моих не смущает. Когда я прибыл сюда, мне подослали прельстительную девицу. Знаю кто и знаю зачем. Заранее предвкушали великий шум, который пошел бы по всей церкви: «У польского князя развратники в епископах ходят!» Погладил бедную девицу, по глупой голове и сказал: «Ступай с миром и не будь дурой!» Нет, не обманется во мне Болеслав. Никогда.