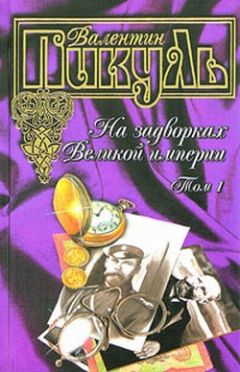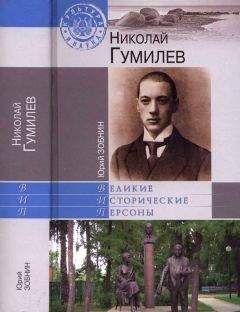Валентин Пикуль - На задворках Великой империи. Книга вторая: Белая ворона
– Молодой человек, оружия нет?
– Нет, – соврал Боря на всякий случай (чтобы не отняли).
– Жаль, – ответили ему…
Народный дом наполнялся людьми. Боря, как посторонний, приткнулся к стенке, покуривал. Ему нужен был Казимир, только Казимир: он приобщил его к партии, пусть он и рассудит…
С треском разлетелось зеркальное окно, – потянуло морозцем.
В проеме дверей показался Извеков:
– Ребята! Во где она… политика-то! Прямо груздочком…
Боря скинул с плеча шинель. Левая рука его болталась на перевязи материнской косынки. «Бедная мама! Как она плакала…»
– Товарищи! – крикнул Боря. – Все наверх!.. Я останусь один! Быстро, товарищи, укройтесь… А я приму их на шпалер!
Первый выстрел, второй… Безбожно, без жалости, как в бою.
Жизнь снова обретала мотив, – мотив революции, и кто-то дружески встал за спиною Бори: товарищ.
– А тебе чего? – спросил Боря, не оборачиваясь.
– Не сердись, – ответил товарищ, – может пригожусь…
Стройный и юный, в гимназическом мундире, узком в талии, Боря стрелял и думал о Казимире:
«Примет? Или… отвергнет?..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Серебристый от инея рысак вынес губернаторские санки на площадь. Чиколини почти свалился с запяток:
– Но при чем здесь я? Почему один я? А где же капитан Дремлюга?
– Сбегайте в собор, – велел князь. – Пусть прекратят службу. И никого из собора! А духовенство – сюда, на площадь…
Чиколини убежал. Сергей Яковлевич, не отходя от саней, наблюдал издали, как занимается пламя над Народным домом. Горело сейчас нечто новое – не министерство, не трактир, не жилище… И погибали, корчась в жаре, драгоценные Петины листы. Всю жизнь собирал! Человек собирал человеческое! От Рембрандта до Дюрера. Теперь все это – прах и пепел… Ветер сорвал с кровли красный огненный лист железа, понес его над городом с тонким воем и свистом.
– Где пожарные? – кричал Мышецкий. – Где Дремлюга?
На площади, среди искр, бегал Иконников-младший – гласный.
– Люди! – голосил он. – Там еще остались люди…
Сергей Яковлевич пихнул кучера с козел:
– Позови мне гласного города…
– Там люди, князь, – подбежал Иконников, – они лезут из огня по трубам, их убивают… Мы же – люди, где жалость?
– Я слышу выстрелы, – сказал князь. – Кто это стреляет?
– Говорят, какой-то гимназист… Наверное, из боевиков!
Путаясь в длинных рясах, бежали священники с крестами, развевались длинные бороды, строго глядели на пожар их скорбные лики.
– В Николин день, – плакал один, – в Николин-то день…
Мышецкому было не до церковного календаря.
– Усмирите словом! – категорически велел князь…
Но черносотенцы священников отшибли, одному проломили голову. Умные да хитрые делали так: брали из Народного дома мебель и выходили под видом обираловцев. Таких погромщики не трогали, приняв за жуликов; остальных добивали крючьями и палками…
Возле саней губернатора появился Борисяк.
– Сейчас, – сказал, задыхаясь от дыма, – сейчас все кончится.
Цепью боевики пошли вперед. Стреляли прямо по спинам. После них оставались лежать на снегу громилы. С лошадиным ржаньем и звоном подъехали пожарные колесницы, стали раскатывать рукава. Кружились в воздухе, оседая серыми хлопьями, сожженные книги рабочей библиотеки. Сергей Яковлевич бросил шубу в сани, пошел наводить порядок. В одном мундире, с орденами – по случаю Николина дня…
– Насос! – крикнул брандмайор. – Качай!
Вода брызнула из рукавов: все шланги были разрезаны.
Мышецкий клином вошел в толпу, крича в сторону черной сотни:
– Если сейчас же не сдадитесь в руки властей, то я…
Громадный булыжник ударил его в лицо. Позлащенный мундир князя осыпали искры и сажа. А из-под мундира торчал ключ камергера его императорского величества…
Губернатора подняли и увели; слезы мешались с кровью. Под выстрелами боевиков, оставляя убитых и раненых, Ферапонт Извеков отводил свою банду на задворки. Попутно завернули в лавки, взяли жратвы и водки, чтобы потом «спрыснуть». Попутно, своротив замок, опричники завернули в типографию. К печатному слову они относились с превеликим уважением…
Человек на костылях, стоя посреди лестницы, преградил им дорогу, крича, чтобы кого угодно, только редакцию не трогали бы.
– А ты кто есть? – спросили калеку.
– Наборщик. А ты…
– Бей! В набор его! Потом разберемся…
– Бью, – ответил наборщик и выстрелил кому-то прямо в рот.
Калеку тут же убили, ворвались в комнату редакции, где редактор стоял за столом, заранее подняв руки. Заговорил сразу:
– Направление «Ведомостей» строго официально. А во всех допущенных мною ошибках виноват его сиятельство – губернатор и князь.
Убили. Облили стол керосином из черной банки. Подожгли. Потом долго и усердно ломали в типографии машины. Над несчастным Уренском, навстречу светлому морозному дню, снова поплыл дым…
Брандмайор спешно велел штопать рукава, резанные ножами активуев. Пожарные кони косили кровавые глаза на зарево пожаров.
– Гайда, гайда! – рассыпалась по задворкам опричнина, и вдруг разом все затихло, только трещали в огне типография и Народный дом…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Осип Донатович, изящно изгибаясь, завел граммофон:
– А то вот еще и госпожа Плевицкая поет недурственно! – сказал Паскаль. – Не угодно ли послушать, Евдокия Яковлевна?
Додо кивнула на двери:
– Стучат. Сразу не открывайте… Проверьте сначала – кто?
Топоча по лестнице сапожищами, вломился Ферапонт Извеков; был он без усов и без бровей – все сгорело от близкого пламени.
– Доброго здоровьица, – сказал, и скулы сразу заходили.
– Мерзавец! – бросила ему Додо, бесстрашно вставая навстречу.
– Вы, сударыня, не квакайте; им, выходит, можно, а нам, выходит, нельзя? Лучше выкладывайте сразу… вот и свидетель!
Осип Донатович Паскаль щелкнул вставной челюстью.
– Я – свидетель? – спросил он.
Додо отошла к стене – выросла во весь рост, гневная.
– Я непричастна! – крикнула она. – Я против этого… всегда!
– Ваше дело, мадам, – ответил ей Извеков. – Только нехорошо получается при вашем высоком благородстве. Обещали по целой трешке на рыло сунуть, а мы сейчас подсчитали… Глядь, всего по двадцати пяти копеек накапало. А народ ведь тоже не пальцем деланный. От таких-то казусов, мадам, революции и случаются…
Додо повернулась к Паскалю:
– Осип Донатович, выведите его прочь, будьте же мужчиной!
Паскаль из-за трубы граммофона сказал:
– Ферапонт Матвеич, вам предлагается выйти…
– Чево? Да я тебя на этом граммофоне и разыграю… Сударыня, – наседал он на Додо, – как же быть? А? Расчет по чести, где касса?
– Я не обещала вам ни по три рубля, ни копеек ваших не считала. Мне плевать, кому сколько приходится… Я была против этого погрома! Осип Донатович, будьте мужчиной, позвоните в полицию!
– Как же-с, мадам, – засмеялся Извеков, – у нас полиция деликатная, прямо как в Лондоне: позвони, на другой день прикатит!
– Кто вам сказал эту чушь? – спросила Додо, поддергивая рукава.
– Его благородие… капитан Дремлюга.
– Спятил жандарм? Пойдем, слышишь? Сейчас же…
– Что ж, – ответил Извеков, – очная ставка завсегда вещь приятная и возвышенно действует на человека. Только кассу прихватите.
Додо ответила ему одним словом – столь соленым, что мясник его даже не понял, ибо во фрейлинах не служил. И – задумался…
Дремлюга всех выслушал и вдруг сказал:
– Извините, мадам, дела наши семейные! – Да так треснул Извекова, что закатил его в угол, только блестели вставные зубы. – Кто, – спросил жандарм, – давал тебе право беспокоить честную женщину?.. Паскаль! Паскаль обещал вам по три рубля… А вы, Евдокия Яковлевна, – улыбнулся он Додо, – кажется, обещали только двадцать пять копеек? Скажите, я не ошибся?
– Что так мало, капитан? – засмеялась Додо нехорошим смехом.
Она застегнула на руке узкую лайку. Пощечина прозвучала резко, как выстрел. Дремлюга скушал ее и облизнулся, засопев.
– Извините, – сказала Додо язвительно, – дела семейные. А вы – негодяй!
Она пошла к порогу, и гордо реяли черные страусовые перья. Над головой стонавшего на полу Извекова прошелестели упругие шелка уходящей Додо…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Боря Потоцкий очнулся в знакомой комнате. Ворковал в углу самовар – весь в медалях за верную службу. Толстый котенок, сидя на подоконнике, мыл лапкой мордочку. И цвели на фоне морозного окна яркие герани. Так было хорошо, так чисто, так покойно…
Глаша сняла с его лица мокрый компресс.
– Отошли, господин гимназист? – спросила.
Казимир взял руку Бори в свою тяжеленную ручищу.
– Ты погоди, – сказал он. – Мы сейчас говорить ничего не станем. Все расскажешь потом… Лежи, брат! – И подмигнул весело.
Кажется, с этим покончено: мотив революции остается в силе!