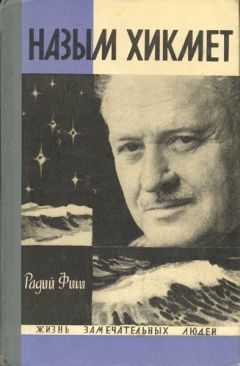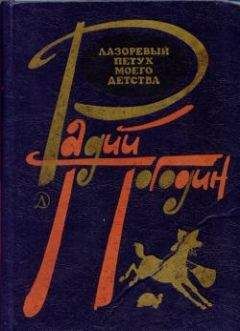Радий Фиш - Спящие пробудитесь
Чернобородый старейшина хлопкоторговцев поднялся, сложил на груди руки, поклонился шейху.
— Извиняй, ахи-баба! Не идет шербет в горло! — Он повернулся к Ху Кемалю. — Спаси тебя Аллах, почтеннейший! Удружил! Под корень вздумал подрубить купеческий цех. — Он снова поклонился шейху. — Не сочти за невежество, ахи-баба, только нам больше места здесь нет.
— И нам, с твоего позволенья, достославный шейх! — ласково проговорил, поднимаясь, улыбчивый, округлый старейшина торговцев коврами и мягкой рухлядью.
— Сила — в покое, — ответил шейх. — Куда торопитесь? Подождите до конца.
— Где нет товара и денег, там нет и торговца! Какого конца еще прикажешь нам дожидаться, достославный шейх?!
— Ошибся, старейшина! — ответил за шейха Ху Кемаль. — Караван-сараи как стояли, так и будут стоять. И товару в амбарах прибавится. Иначе откуда брать? Только будут они не чьи-то, а общие.
— Не я ошибся, а ты, Ху Кемаль! Общее вмиг разворуют: добру нужен хозяйский глаз.
— Насчет глаза — правда твоя! Надобны дельные люди, чтобы распорядиться, как распоряжаются имуществом, завещанным на благое дело, — больницами, медресе, домами призрения, только честно и принародно. И назначать управителей станет не кадий, а мы сами.
— Нам-то, торговцам, что с того?
— Цену золоту знает ювелир, а товару — купец. Нужда настанет, брат, в вашем глазе хозяйском да в вашей сметке.
— Послушай меня, Ху Кемаль! Через горы да пустыни в Каир, за море в полночные страны русов могу дойти, если я сам себе хозяин. А в приказчиках не сумею, непривычен!
Хлопкоторговец, красный от гнева, решительно двинулся к выходу.
— У наместника Али-бея, что заперся в крепости, — напирая на каждое слово, сказал ему в спину Ху Кемаль, — ходить в приказчиках мог, а мирским приказчиком — не желаешь?!
Воины ахи преградили хлопкоторговцу путь.
— Пропустите его! — приказал Ху Кемаль. — Где гнев, там нет места разуму.
Хлопкоторговец вышел. Потянувшийся было за ним торговец коврами и мехами остановился, присел бочком на свое место и проговорил с извиняющейся улыбкой:
— Раз такое дело… Служить добрым людям… Я останусь…
Ху Кемаль предпочел, чтоб остался чернобородый: недолюбливал улыбчивых, со всем согласных. К тому же товар делает купца. Хлопкоторговец всю жизнь имел дело с ткачами. А у этого товар бейский… «Остался служить… Кому?.. Надо поговорить с шейхом. Пусть приглядят за ним».
— А с деньгами да золотом бейским что станешь делать, Ху Кемаль? — спросил старшина ткачей.
— И правда, — подхватил кривой деревенский староста. — Кинешь в небо, на землю упадут, курам дашь — клевать не станут. На что они нам?
— Не ведаем, братья! Может, случай придет, своих людей выкупим. А может, оружье в чужедальных землях… Не знаем!
— Как так, не знаешь?
— Так вот, братья, не знаем. Нет у нас ответов готовых на все вопросы! Нету! Разойдемся — думайте сами, вместе с людьми. — Он повернулся к ахи-баба: — И мы тут с нашим досточтимым ахи-баба вместе будем думать.
IIIОт мастера несло, да, именно несло неистребимым запахом кожемятни — прогорклой мездрой, перекисшими шкурами и пес его знает чем еще, рабби Ханана просто мутило, да, именно мутило. Но он умел владеть собой; лишь умеющий властвовать над собою может повелевать другими. Никто не мог бы приметить малейшего знака неудовольствия на его лице. Только благоволение и отеческую заботу, да, именно отеческую заботу, ибо его, рабби Ханана бар Абба Господь поставил над всей альхамой — иудейской общиной Манисы, а значит, и над этим Хайафой — ох как от него разит! — который представляет цех кожевников.
Они были почти сверстниками. Но рабби Ханан, не чета Хайаффе, возрос среди запахов куда более благородных. Он принадлежал к богатому роду еврейских виноторговцев и откупщиков. И сам немалые достатки нажил, но скрывал свое богатство.
Сухонький старичок лет шестидесяти в камилавке и какой-то хламиде, он сидел в старом, проваленном кресле среди ветхой мебели и наваленных грудами книг и выглядел так неказисто, что со стороны и не предположить, какой властью он обладал. Древняя, богатая и многочисленная альхама Манисы пользовалась правом собственного судопроизводства, не подчинялась ни кадию, ни беям и была целиком подвластна своему парнесу, то бишь рабби Ханану бар Абба, и султану дома Османов. Но султаны были далеко и сменяли друг друга на престоле чуть ли не через год, а потому в сии многотрудные времена — впрочем, для народа Израилева вот уже тысяча пятьсот лет иных времен не было — жизнь и имущество иудеев Манисы пребывали в руках рабби Ханана.
Благожелательным кивком ответив на приветствие Хайаффы, рабби Ханан внимательно разглядывал мастера, пока тот усаживался напротив. Он помнил его молодым, красноречивым, вспыхивавшим, как порох, учеником иешивы — школы, где изучают Библию и талмуд. В одни и те же годы учились они в Бурсе. Только у разных учителей: Ханан, тогда еще не рабби, у бежавшего от кастильской инквизиции под защиту веротерпимого султана Баязида, последователя прославленного Ибн Рушда, а Хайаффа, по скудости средств, у какого-то безвестного раввина, который привел его к нечестивцу по имени Элисайос — да примет господь грешную душу его!
Тридцать лет минуло с лишком. И вот рабби Ханан — глава альхамы, а Хайаффа, как его отец, — кожевенных дел мастер. Что ж, каждому свое!
Смуглое, матовое лицо Хайаффы было обрамлено курчавой бородою. Миндалевидные карие глаза спокойно глядели из-под мохнатых бровей. Руки, жилистые, но еще сильные, устало лежали на коленях. Он был бы даже приятен, если бы от него — о боже! — так не разило. Неужто он до сей поры сам стоит у квасильных чанов?
Хайаффа знал, зачем призвал его парнес, старый знакомец и собеседник. Он никому не сознался бы в этом, но давно взял себе в обыкновение сверять каждую новую мысль, любое важное решение с Хананом бар Аббой. Чем упорней тот возражал, чем яростней сопротивлялся, тем крепче убеждался мастер в собственной правоте: они с парнесом были противоборцами. Памятуя, однако, слова талмуда: «Ради мира можно пожертвовать даже истиной». — Хайаффа свои возражения обычно облекал в форму частичного согласия, что приличествовало ему как младшему годами и положением. Но сегодня этому настал конец, что бы ни говорил, что бы ни делал рабби Хана, пять сотен молодых воинов покинут стены еврейского города — иудерии.
— Я рад, что ты пришел, Хайаффа бен Ямин! — меж тем любезно приветствовал его парнес.
— И я рад тебя видеть, мой господин и учитель!
— До меня дошло, высокочтимый мастер, что ты читаешь своим людям послание бывшего османского кадиаскера, содержащее приглашение к мятежу против законной власти, и ни словом не опровергаешь сего богопротивного призыва. Верно ли это, бен Ямин?
— Нет, мой господин и учитель, неверно. В письме моего брата нет ни слова о бунте против законных властей. Речь идет, напротив, о восстановлении попранного закона, что дарован прародителям Адамом и Евой.
— Не скажешь ли, мастер, как представляет себе сей закон твой брат из сыновей Агари?
— Земля и богатства, мой учитель и господин, принадлежат всем сообща. Каждый должен трудиться сам и может веровать, во что верует, ибо все народы и все веры едины.
Водворилось молчание. Испуг завладел парнесом: этот кожевник говорит о чудовищных вещах, как о чем-то само собой разумеющемся. Но он совладал со своим испугом.
Окна в покое были завешаны плотной тканью с краснолазоревыми письменами. Массивные еврейские буквы, вплетенные в цветочный орнамент, тянулись по фризу, отсвечивавшему потускневшим золотом. При неверном свете свечей их трудно было разобрать, но Хайаффа бывал здесь не раз. И прочел про себя ту, что помещалась над головой рабби Ханана. От имени бога в ней обещалось избранному народу вечная милость и торжество над всеми прочими народами. Губы Хайаффы чуть заметно скривились. Бог у рабби Ханана, как у правоверных священнослужителей всех религий, возвещал господство своих над чужими. Но разве прародители могли разделять собственных детей? И разве господство не есть всего лишь оборотная сторона рабства?
Рабби Ханан истолковал полуулыбку кожевника как насмешку. Этот дурень, от которого несет сыромятней, называет мусульманина, верховного судью державы Османов, своим братом, а тот, между прочим, ведет дело к искоренению народа Израилева, порученного попеченью рабби Ханана, народа, к коему принадлежит и безголовый кожевенник, готовый вот-вот стать мешудамом — вероотступником.
Гнев закипел в душе парнеса. Не беседовать, как с равным, а подняться на альмемору — возвышение в синагоге, откуда читают извещенья, и под рев бараньего рога, шофара, возвестить, что Хайаффа беи Ямин, кожевенных дел мастер, отлучен и душа его умрет вместе с телом.