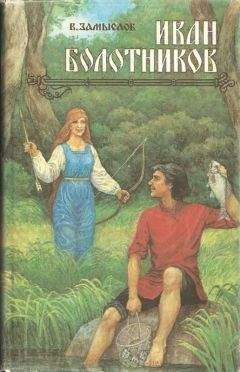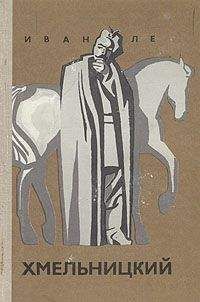Иван Ле - Хмельницкий. Книга первая
— Стойте! Отобрать оружие, коня…
Это был приказ старшого. На коне сбитого на землю паныча уже сидел один из жолнеров, приехавших с посольством, а его саблей размахивал кто-то из соседей Ержи Стриевича…
В эту минуту и пошел дождь. Сперва он, будто предупреждая, побрызгал, а потом полил как из ведра. Вытесненные со двора сыновья Чарнецкого оставили своего младшего брата и поскакали обратно, к имению. Самойло Лащ выстроил десяток вооруженных всадников и двинулся в атаку на «ребелизантов». Он заметил среди защищавшихся крестьян троих украинских казаков и, не понимая, как они попали сюда, в такую даль, велел прежде всего поймать их.
Крестьяне считали своим долгом защищать гостей, приехавших к ним с такой благородной целью с Днепра. Женщины с криком убегали и прятались за избы, а мужчины, защищая гостей, медленно отступали через двор хозяина к лесу, начинавшемуся за лугом. В неравной схватке крестьян с вооруженными всадниками пришлось принимать участие и Горленко с казаками и жолнерами. Когда же к гусарам Лаща присоединились около десятка гусар Конецпольского, приведенных Павлом Чарнецким, Мусий Горленко взял на себя командование обороной.
Под проливным дождем крестьяне постепенно отходили к лесу. У большинства из них, кроме кола или, в лучшем случае, вил и топора, другого оружия не было. Поэтому Горленко попросил людей бежать побыстрее к лесу, а сам со своими боевыми товарищами стал оказывать вооруженное сопротивление нападающим. Надо было задержать гусар, не допустить их к безоружным крестьянам.
Почти у самой опушки леса раздался первый выстрел.
— Ох! — крикнул Бронек, шедший с крестьянами, и упал на землю, пронзенный пулей.
В руках у Лаща дымился пистоль.
Крестьяне подняли убитого львовского каменотеса и понесли его в лес, а Мусий Горленко разрешил своему жолнеру выстрелить в гусара, прикрывавшего собой своего безрассудного командира Самойла Лаща.
Ливень будто набросил завесу на отступающих крестьян. Углубляясь в чащу леса, куда всадникам пробраться было трудно, они услышали еще несколько выстрелов.
11
Черное море было спокойным. Зато бушевал пожар в крепости и караван-сарае. Здесь обычно продавали невольников, которых турки и татары пригоняли с Украины.
Огонь пожирал все, что могло гореть в караван-сарае, и с треском перебрасывался на город, где раздавались вопли побежденных и возгласы победителей-казаков.
На пологом берегу, около длинных казачьих челнов, спущенных на воду, неистовствовал людской ураган. Небольшие группы казаков с трудом пробивались через толпу к челнам, охраняемым запорожцами. Сюда грузили сумки с продуктами, кожаные мешки с порохом, тяжелые узлы с пулями, бочки и связанные снопы из куги, чтобы удержаться на поверхности моря, если вдруг волны поглотят суденышко.
Из пылающего города все еще доносились воинственные крики, выстрелы и отчаянные женские вопли. Однако здесь, на берегу, разгоряченных боем казаков становилось все больше и больше. Стоявшие у каждого челна сторожевые окликали товарищей, помогая им побыстрее найти свои суденышки. Сквозь возбужденную людскую массу пробивался Петр Сагайдачный, окруженный старшинами и джурами. Озабоченный и гневный атаман отрывисто отвечал на вопросы и отдавал короткие приказания. Сейчас трудно было отличить старшин от казаков, потому что все они, за исключением священника Кондратия, были оголены до пояса. Следом за Сагайдачным шел и Богдан, с тревогой посматривая на гладкую, спокойную поверхность бескрайнего моря, освещенного багряными лучами солнца. Он, в отличие от других казаков, еще ни разу не снимал своего кунтуша, который уже был разорван в нескольких местах и из малинового превратился в серый.
От большой чайки к Сагайдачному подбежал казак.
— Я тут, пан старшой, и чайка находится вот здесь, — воскликнул он.
Сагайдачный подошел к чайке, осмотрел груз, укрепленные кугой борта, мачту, осмоленную доверху, тридцать пар новеньких весел в уключинах и спокойно произнес:
— Добро! — И обернулся к старшинам, сопровождавшим его: — Ну что же, панове, поклонимся земле, с молитвой на устах и с верой господней в сердцах будем садиться в чайки. Благослови, отче Кондратий, да помолимся, панове казаки…
— О ниспослании побед во брани, о чести и славе веры Христовой господу богу помолимся… — начал батюшка, благословляя крестом казаков. — Господи боже, благослови и на пути во брани сей, тобой единым освященной мести во имя спасения православного люда… Да святится имя твое во царствии твоем, и да снидеши во славе всевышней своя силы и мудрости на пути справедливого казацкого похода. Свои силы и мудрости во благо победы подаждь грешному рабу твоему Петру…
Сагайдачный снял шапку и стал молиться, обратив лицо к багровому солнцу, которое поднималось над поверхностью спокойного моря, словно выплывая из прибрежных туманов далеких кавказских берегов.
— Рабам твоим… — подхватила многотысячная масса казаков молитву.
Когда батюшка умолк и, словно пистоль, сунул за пояс свой крест, Сагайдачный вытащил кожаный кошелек и достал оттуда золотой червонец.
— На счастье, чтобы с победой в добром здравии с молитвой возвратиться на эту землю, господи боже, благослови! — произнес он и, размахнувшись, бросил золотой в морские волны.
Монета, вертясь и поблескивая на солнце, шлепнулась в воду и пошла на дно. Старшины и казаки поддержали этот освященный многими морскими походами обычай. Большие и маленькие серебряные и медные монеты, поднимая брызги серебристых капель, погружались в море. Каждый, кто бросил монету, искренне верил, что море во время похода не причинит ему зла, не обидит. У кого же не было монеты — бросали то, что было в руках. Хотя бы камешек, валявшийся под ногами.
Богдан вытащил из кармана кунтуша серебряный крестик, подаренный ему Христиной при прощании, и с глубоким волнением бросил его на дно морское, будто спрятал там память о своей первой святой любви.
Петр Конашевич поставил ногу на сходни, положенные на борт чайки. Но он не поднялся по ним, а стоял и внимательно прислушивался, о чем говорят казаки, ловил каждое нужное ему слово. Он посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос атамана Жмайла, наказного атамана казацкого флота, которому он поручил преследовать турок.
— Прошу, пан Петр! — кричал Жмайло, пробиваясь сквозь толпу. — Тут оказия одна…
— Какая еще оказия, господь с тобой, Нестор? К счастью, мы уже одарили море деньгами. Вели, атаман, садиться на челны. Нехорошая примета, когда тебя останавливают перед отплытием.
— Да тут… люди из польской Самборщины хотят примкнуть к нам, просят взять в морской поход, — сообщил Жмайло, вытирая шапкой пот, стекавший по голой груди.
— Кто такие? Из полка Хмелевского, что ли? — переспросил, успокаиваясь, Сагайдачный.
И увидел, как, опережая наказного, сквозь толпу пробивались более десятка казаков, жолнеров и крестьян, вооруженных саблями и пистолями. Но Богдан вдруг бросился им навстречу, радостно воскликнув:
— Пан Мусий? — И, словно сожалея о том, что бросил в море талисман любви, резко обернулся и посмотрел на тихо плещущиеся волны.
Мусий Горленко принес с собою прошлое…
А тот, полуголый, изнемогающий от крымской жары, бросился к Богдану, обнял его по-отцовски сильными руками, похлопал по спине и, отстранив от себя, сказал:
— В одной чайке поплывем… — И вместе с поляками направился прямо с Сагайдачному.
Старшой, продолжая стоять все в той же позе, поставив одну ногу на ступеньку, ждал их. Горленко, опередив наказного, на ходу учтиво поклонился Сагайдачному.
— Боже, да какой же тут поляк из Самборщины, ежели это казак атамана Кривоноса? — удивленно произнес Сагайдачный.
Однако на расстоянии нескольких шагов от Горленко остановилась и группа настоящих польских крестьян — «хлопов», одетых кто во что горазд. На них были и польские кунтуши, и подольские свитки, казацкие жупаны, и даже летние татарские чапаны. Но у каждого из них на боку висела сабля, приклепленная к поясу или просто привязанная к скрученному платку, у каждого имелся пистоль, добытый в сражении с турками и татарами при разгроме казаками Кафы.
— Вот это, прошу, пан старшой, польские братья, крестьяне, убежавшие от шляхтича Чарнецкого из Самборщины… — начал Горленко.
— Одного, прошу пана, считать из Перемышлянского староства, — перебил высокий жилистый поляк, низко, но с достоинством кланявшийся Сагайдачному.
— Да, да, прошу. Восемь польских хлопов из Чарнеца и один из Перемышля. Он помог нам переправиться через Сан у Перемышля. И тоже не вернулся к своему шляхтичу, потому что проклятые надсмотрщики гнались за нами до самого Днестра. А эти семь крестьян защищали нас в Чарнеце, когда охрана пана Лаща убила старого Львовского каменотеса Бронека…