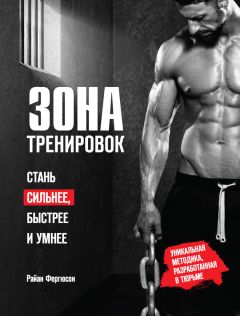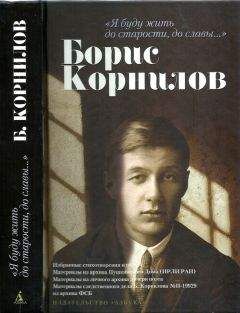Нестор Кукольник - Иоанн III, собиратель земли Русской
Сказали уже мы, что осень 1500 года, следовавшая за победою нашей при Ведроше, была страшно обильна снегами. С приближением к зиме снежные пороши перешли просто в сибирские пурги. И день и ночь валит себе да валит крупными хлопьями снег, засыпая в лесу чуть приметные просеки дорог, совсем заносимых на полянах. Выбиваются из сил истомленные обозные лошадки, попав в вязкую кашу, в какую в эту зиму обращался чуть не ежедневно снег сыпучий.
Представьте же себе в такую пору в замке Хребтовича невольных обитателей развалин — воеводу да дьяка, — боровшихся со всякого рода лишениями. Вечно за делом выносят они убийственную сырость с резкими переходами от жара к холоду.
Только железное здоровье тогдашних людей выносило эту пытку терпеливо и счастливо, навек не расстраивая мощного организма, пожалуй, среди передряг больше закалявшегося. Положение стражников, детей боярских, — на посылках и для охраны сюда присылаемых по очереди, — было еще хуже, конечно, чем для постоянных обитателей: самого начальства местного. Воеводу согреет и русская печка-матушка; напитает он себя хорошим вдосталь; оденется в три-четыре кафтана — его и пушкой не прошибешь! А каково дрогнуть на дневанье новику-бедняку, в лапотках да в понитном[33] чекмене? Шапочка ветхая, с выеденным крысами меховым околышком; кожаные рукавицы без варег да чекмень, хотя бы и поверх полушубка, на ветру сквозном, пронзительном, под воротами расшатанными в целый-то день насквозь дадут пронизать человека морозу зубастому! Дрожь такую можно научиться разыгрывать, колотя зуб об зуб, что только больно будет ныть челюсть от этой музыки. А стоять надо — велят! И ослушаться нельзя — на то служба, говорят, государь недаром вам, вахлакам, сверх земельных участков рублевый оклад отпущает! Ну и стоят сердечные. Голодают и недосыпают в разгоне, зато дремлют на простое. Да и важно дремлется как! Притулишься под стенку, ножку на ножку заложишь, ручницу обнимешь дружески и под свист да под песню приятеля, ветра буйного, всхрапнешь, пока не видит десятник. В воскресный день особенно удобно дремать стражнику: никто уж и не взыскивает! Да что от скуки и делать беднякам, как не спать? Вдали от своей семьи да от теплого угла, в чужбине неприглядной, где довелось коротать эту зиму русским людям по воле державного. Об Рождестве дни короткие. Не успели в дальнем городе прогудеть заунывно звуки колоколов к вечерне — как уже тьма непроглядная. Каким-то черным богатырским остовом представляется впотьмах замок Хребтовича, погруженный во мглу, сыпавшую пухлые комья снега…
Подобие зрячего глаза во лбу великана представляла яркая точка света из прорванного пузыря оконницы в избе Истомы Удачи. А на глаз — уже ничего не видевший, только напоминавший о себе тусклым пятном сияния во мраке — походил огонек за цельным пузырем в светлице князя Холмского.
Все в его временной резиденции погружено было в мирное безмолвие. Стражники двое тоже дремали под воротами. Вдруг неведомо откуда вывернулся конник на статной лошади, спрашивает, где воевода. Вместо ответа стражники только кивком головы указали ему машинально в сторону тусклой точки света.
Прибывший, видно, вполне удовлетворился и этим, потому что больше ни о чем не спрашивал. Подъехал на дворе к крылечку и исчез во мраке сеней. Видно, загадочный посетитель очень уж был догадлив, потому что отыскал затем утлую дверь в жилище Холмского. И прежде чем поднялся с полавочника князь-хозяин, лежа читавший по харатье притчу на смущение помыслов, перед ним стоял уже странный посетитель. Он приветливо смеялся и называл воеводу по имени (только без отчества).
— И все не узнаешь, князь Василий? — с новым порывом веселья спрашивает по-польски прибывший.
— Нет!.. Быть не может?!
— Возьми же мою руку, и если по ее трепету ты не отгадаешь, кто я, то…
— Отгадал — даже и в переодетой! — по-польски же спешит заявить хозяин. — Зачем, однако, княгиня, Бог занес твою честь к нам?
— Затем, что верный гофмейстер мой бежал так поспешно и меня не уведомил… Заставил горько оплакивать опасности, которым он четыре тяжелых дня подвергал себя…
— Напрасно изволила честь твоя принимать на себя такие заботы о неключимом рабе… до нашего рубежа долетел я без всяких приключений. После уже стало известно, что на другой только день как Пршиленжний загнал — как оповещал он — пять добрых коней и мог наскакать беглого холопа княгини Позенельской. Обворовал, вишь, ее мосць: увез тысячу коп карбованцев злотых. Сказке такой порубежные власти наши, конечно, не поверили и погони не сделали. А пан в погоне за мною всего опоздал только на полторы сутки.
— Счастлив ты, князь, что так счастливо отделался… от этого Пршиленжнего. Это, как тебе, может быть, известно, фискал пана архиепископа, завзятый рубака и висельник… Нагнал бы он тебя, так Богу известно, кто из вас двоих остался б в барышах? Я полагаю — он! И при одной мысли, на что способны архиепископ и слуга его, у меня болезненно сжималось сердце… Я начинала бессознательно читать Аве Мария…
— Благодарю за память и ласку, а все недоумеваю, что бы доставило мне честь теперешнего посещения? И где же? Здесь, чуть не среди стана неприятельского. Это для княгини, хотя и очень храброй, больше чем безрассудство. Могли бы признать и схватить, а не то — убить твою честь?!
— Да разве приметно, что не мужчина едет? — отважно спрашивает Позенельская. — Твои стражники, князь-воевода, не приметили же меня? А я еще к ним сама обратилась с вопросом: где воевода?
Холмский пожал плечами.
— Однако что же заставило благородную княгиню пуститься на такую опасную шутку? Не верю я, чтобы то забота была о твоем сбежавшем слуге, о котором вспознали, что близко он, стало можно, пожалуй, и схватить его, што ли?
— Нет, конечно. Я не настолько глупа, чтобы пускаться для этого на опасность, як ты, пан, мувишь… Есть более важное дело и более достойное воеводы, доверенного царя московского. Я являюсь уполномоченною от короля Александра предложить мир его тестю на условиях, которые будут выгодны для Москвы… только с одним условием.
— А с каким, нельзя ль узнать?
— Да ты и должен первый знать об этом, когда к тебе я прямо обращаюсь, зная твою привязанность к пани Елене. Если ты, чтобы увидеться с нею, принял роль слуги моего, значит, она дорога тебе? От тебя и будет зависеть: предложить, теперь Ивану Васильевичу взять свою дочь обратно. Я ей не желаю зла и не могу относиться холодно к страданиям молодой женщины. Под таким условием я уговорю Александра отдать Смоленск тестю! Неужели же вам всего этого мало?
— Не мало, не спорю — важная уступка! Да как же государю дочь-то к себе потребовать? Жена от мужа не берется. Он во всякое время назад ее взять пожелает.
— Не пожелает, коли подпишется обоюдно договор. С нашей стороны измены не будет — вы только не начинайте.
— Что же, Смоленскую-то область за вено Елене уступает сожитель?
— Как хотите почитайте, уж там ваше дело. Мы предлагаем сделку, и сам ты мувишь, князь, выгодную… Не теряй же времени — пиши своему государю.
— Изволишь видеть, княгиня, то, что честь твоя высказать изволила, писать не приходится нашему брату: на смех подымут и своя братья… Не токмо государь! Ты, скажет, плохой слуга, коли бабья разума слушаешь!
— Так ты не словам верь, а грамоте! Читай! — И княгиня вынула из-под охабня втрое сложенную грамоту, запечатанную восковою печатью.
Холмский, приметно взволнованный, пробежал содержание — то же самое, что говорила отважная посланница. Подпись была, несомненно, собственноручная короля Александра, даже скрепленная и канцлером-архиепископом.
— Все в порядке. Почему не послать к государю? Можно будет. Только как же я уведомлю вас и на чье имя пошлю уведомление? — спросил воевода передатчицу королевской грамоты.
— На мое имя, известно, — ответила она величественно.
— Это невозможно, княгиня. С какой стати я, воевода государя московского, решительную волю самодержца сообщать буду неслужилому лицу — твоей чести?
— Пани Позенельской можно получать даже репорты от ее гофмейстера, пана Хлупского…
— Да это было, пожалуй, в порядке вещей, только.
— Не теперь, ты скажешь? Разумеется, тогда пан Хлупский склонялся на колени перед пани вельможной, а она… так милостиво слушала его рассказы и не требовала от него ни клятв, ни подтверждений.
— За это вечная благодарность милостивой пани.
— И только?
— Преданность, хотел сказать я…
— Отчего не прибавишь ты — любовь?
— Я оказался бы лжецом.
— Неблагодарный! Это ли награда за…
— Вечная признательность.
— Не она нужна мне.
— Больше ничего не могу уже прибавить.
— И сердце есть у пана князя?.. Оно.
— Занято, пани княгиня, прежде, чем узнал я, что честь твоя живет на сем свете.