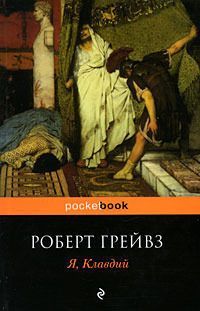Роберт Грейвз - Божественный Клавдий
Ничего не остается, решил я, как ударить первыми. Я отправил командующего гвардией Криспина во главе роты гвардейцев, чья верность была вне подозрений, на виллу Ассариона в Байях, и там Азиатик был арестован. В наручниках и кандалах его привели ко мне во дворец. Вообще-то я должен был предъявить ему свои обвинения перед сенатом, но я не знал, как широко распространился заговор и как далеко зашел. Могли раздаться голоса в его защиту, а я вовсе не хотел этого допускать. Я допросил его в своей комнате в присутствии Мессалины, Вителлия, Криспина, Помпея и главных советников.
Роль общественного обвинителя играл Суилий, и, глядя на стоявшего перед ним Азиатика, я подумал: если уж бывает вина написана на лице человека, так она написана на этом лице. Но должен сказать, что Криспин не сообщил ему, в чем его обвиняют, — он и сам этого не знал, — а мало кто из нас может после неожиданного ареста со спокойной совестью смотреть на своих судей. Я помню, как отвратительно себя чувствовал, когда меня арестовали по приказу Калигулы за то, что я якобы поставил свою печать как свидетель на поддельном завещании. А Суилий был на редкость безжалостный обвинитель и даже видом своим внушал страх. У него было худое холодное лицо, седые волосы, черные глаза, а своим длинным указательным пальцем он делал выпады и размахивал, как мечом. Начал он с того, что осыпал Азиатика дождем комплиментов и издевок, которые, как все мы понимали, были лишь прелюдией к гневным грозовым разрядам брани и оскорблений. Он спросил Азиатика легким, якобы дружеским, тоном, когда именно он намерен посетить вновь свои французские владения — до сбора винограда? И что он думает об условиях землепашества в окрестностях Вены? И можно ли их сравнить с условиями в рейнской долине?
— Но не бери на себя труд отвечать, — сказал Суилий. — Меня так же мало интересует, хорош ли под Веной ячмень и громко ли там кукарекают петухи, как это на самом деле интересовало тебя.
Затем Суилий перешел к подаркам Азиатика в гвардии: спору нет, он — верный подданный, но не боится ли Азиатик, что простаки военные могут неправильно истолковать его щедрость?
Азиатик все тяжелей дышал — он явно нервничал. Суилий подошел к нему ближе, как «охотник» на арене амфитеатра, когда его пущенные издалека стрелы попадают в цель: зверь ранен, и теперь в ход пойдет копье.
— Подумать только, что я называл тебя другом, обедал за твоим столом, позволил себе обмануться твоей любезностью, твоим благородным происхождением, любовью и доверием, которые ты хитростью снискал у нашего милостивого императора и всех честных граждан Рима. Тебя, грязное животное, педераст, сатир из борделя! Льстивый совратитель сердец и тел наших верных мужественных солдат, тех самых солдат, коим доверена священная особа нашего цезаря, безопасность города и благоденствие всей империи. Где ты находился вечером во время пира в честь дня рождения императора? Ведь тебя приглашали на него. Был болен, да? Очень болен, не сомневаюсь. Я вскоре представлю суду самых отборных из твоих «хворых» друзей, молодых гвардейцев, подхвативших свою болезнь у тебя, ты, мерзкий распутник.
И так далее, и тому подобное. Азиатик смертельно побледнел, на лбу блестели крупные капли пота. Цепь его звенела, когда он смахивал их. По правилам судебного разбирательства он не мог отвечать, пока не наступило время для защиты, но в конце концов он не выдержал и вскричал хрипло:
— Спроси своих сыновей, Суилий. Они не будут отрицать, что я мужчина.
Его призвали к порядку. Суилий перешел к интрижке Азиатика с Поппеей, но долго на этом не останавливался, словно это самый несущественный пункт обвинения, а не самый важный, и этим заманил Азиатика в ловушку: тот не признал ничего из поставленного ему в вину. Если бы Азиатик был умней, он не стал бы опровергать того, что склонил Поппею к прелюбодеянию, а отвергал бы все остальное. Но он отрицал все и тем самым подтвердил свою вину. Суилий вызвал свидетелей, по большей части молодых солдат. Главного из них, молодого рекрута с юга Италии, попросили опознать Азиатика. Видимо, ему сказали заранее, что тот, кто столь противоестественно его совратил, лыс, так как он указал на Палланта. Раздался громкий взрыв смеха: всем было известно, что Паллант разделяет со мной ненависть к этому греху, к тому же он был в тот вечер распорядителем на празднике.
Я чуть было тут же не прекратил разбирательство, но затем подумал: возможно, у свидетеля плохая память на лица — как у меня самого, — и то, что он не смог опознать Азиатика, никак не снимает с того других обвинений. Но когда я попросил Азиатика опровергнуть, если он может, пункт за пунктом то, в чем его уличает Суилий, голос мой звучал мягче. Он попытался это сделать, но не смог удовлетворительно объяснить свои передвижения по Франции, а уж что касается его интрижки с Поппеей, тут все его показания были ложными. Обвинение в том, что он совращал гвардейцев, я счел недоказанным. Говорили они под присягой деревянным неестественным голосом, свидетельствующим о том, что их слова были заранее выучены наизусть, и когда я задавал им вопросы, они лишь повторяли сказанное. Но, с другой стороны, я никогда не слышал, чтобы гвардейцы отвечали в суде иначе, — они привыкли к муштре.
Я приказал выйти всем, кроме Вителлия, молодого Помпея и Палланта — Мессалина разразилась слезами и выбежала из комнаты за несколько минут до того — и заявил, что не вынесу Азиатику приговор, не заручившись сперва их одобрением. Вителлий сказал, что вина Азиатика бесспорна, и он лично так же поражен и огорчен этим, как я сам; Азиатик — его старый друг, любимец моей матери Антонии, которая использовала свое влияние при дворе, чтобы способствовать продвижению по службе их обоих. Он сделал блестящую карьеру и всегда был в числе первых, когда надо было выполнить долг перед родиной: добровольно отправился за мной в Британию, а если не подоспел к решающему сражению, причиной тому была буря, а не трусость с его стороны. Поэтому, если Азиатик помешался в уме и предал собственное прошлое, можно все же проявить снисходительность: дать ему возможность погибнуть от собственной руки; хотя, строго говоря, он заслужил, чтобы его скинули с Тарпейской скалы, а затем с позором сволокли к Тибру и бросили в воду. Вителлий сказал также, что Азиатик фактически признал свою вину, отправив ему сразу же после ареста записку, где умолял, ради их старинной дружбы, добиться для него оправдания, а на худой конец — разрешения самому покончить с собой.
— Он знал, — добавил Вителлий, — что судить его ты будешь честно и справедливо, как всегда. Поэтому чем мое вмешательство могло ему помочь? Если он виноват, его осудят, если невиновен — будет оправдан.
Молодой Помпей заявил, что Азиатик не заслуживает милосердия, но, возможно, он думал о собственной безопасности: в числе пособников Азиатика называли Ассариона и сестер Тристония, а они — родственники Помпея, и он хотел доказать мне свою преданность.
Я отправил Азиатику записку, где уведомлял его, что откладываю судебное разбирательство на сутки и на это время он будет освобожден от оков. Он, естественно, должен был понять, что это значит. А Мессалина поспешила к Поппее, предупредить о том, что Азиатик вот-вот будет осужден, и посоветовать, чтобы она предвосхитила суд над собой и свою казнь, покончив жизнь самоубийством. Я об этом ничего не знал.
Азиатик умер не дрогнув. Он потратил последний день жизни на то, чтобы привести в порядок дела, ел и пил, как обычно, и гулял в Лукулловых садах (как они все еще назывались), давая инструкции садовникам насчет деревьев, цветов и прудов. Когда он увидел, что его погребальный костер сложили слишком близко к аллее грабов, он страшно рассердился и оштрафовал вольноотпущенника, выбравшего это место, на сумму, равную его трехмесячному жалованию. «Неужели ты не понимаешь, идиот, что при ветре пламя доберется до этих чудесных старых деревьев и испортит весь вид?» Его последние слова, обращенные к семье, когда он лежал в теплой ванне, а врач был готов перерезать ему артерию на ноге, были: «Прощайте, мои дорогие друзья. Если бы я умер из-за темных махинаций Тиберия или ярости Калигулы, мне было бы не так обидно, но оказаться жертвой доверчивости слабоумного Клавдия, быть преданным женщиной, которую я любил, и другом, которому я доверял!..» Он был убежден, что все подстроили Поппея и Вителлий.
Через два дня я пригласил Сципиона к обеду и спросил, как поживает его жена: я хотел тактично ему напомнить, что прекращу все это дело, если он по-прежнему любит Поппею и готов ее простить.
— Она мертва, цезарь, — сказал он и зарыдал, обхватив голову руками.
Родные Азиатика, Валерии, желая показать, что они осуждают его предсмертные слова, были вынуждены подарить Мессалине в качестве умилостивительной жертвы Лукулловы сады: хотя тогда я этого не подозревал, именно они были истинной причиной смерти Азиатика. Я привлек к суду братьев Петра и казнил их, после чего сестры Тристония покончили с собой. Что касается Ассариона, его смертный приговор я, по-видимому, тоже подписал, хотя ничего об этом не помню. Когда я велел Палланту предупредить Ассариона, что его ждет разбирательство, мне доложили о его казни и показали приговор, судя по всему не поддельный. Должно быть — единственное объяснение, которое я могу предложить, — Мессалина или ее покорное орудие Полибий засунули его между других важных бумаг, принесенных на подпись, и я подмахнул его, не читая. Теперь-то я знаю, что со мной постоянно играли такие штуки; пользуясь моим плохим зрением (у меня так уставали глаза, что я с трудом разбирал буквы, и то лишь при естественном свете), они «читали» мне вслух вместо официальных бумаг и писем, под которыми я должен был поставить подпись, выдуманные тут же на месте тексты, не имеющие ничего общего с подлинными документами.