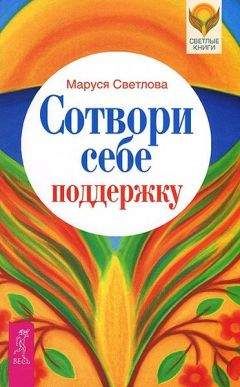Глеб Благовещенский - Наполеон I Бонапарт
«Чего я хочу, куда я иду, – я этого и сам не знаю». Вот странное признание в устах Наполеона, умнейшего из людей. Как будто повторяет он вечное слово Гёте о нем: «Наполеон весь жил в идее, но не мог ее уловить своим сознанием». «Это выше моего разумения, cela me passe!» – как сказал он после покушения Фрид-Штапса. Не похож ли он на человека, которого неодолимая сила ведет, как слепого, за руку?
А вот признание еще более странное: «У меня нет воли. Чем больше человек, тем меньше ему надо иметь воли: он весь зависит от событий и обстоятельств. Plus on est grand, et moins on doit avoir de volenté». [Masson F. Le sacre et le couronnement de Napoléon. P. V.] Наполеон, человек бесконечной воли – без воли. Величие горя – свое величие – он измеряет отречением от воли. Мнимый владыка мира – настоящий раб. «Я говорю вам: нет больше раба, чем я: моя неумолимая владычица – природа вещей». Просто смиренно он говорит: «природа вещей», «обстоятельства», – чтобы не употреблять всуе святое и страшное слово: Рок.
Отречение, смирение, покорность, жертвенность – все это ему, казалось бы, столь чуждое, на самом деле, родственно. «Не моя, а Твоя да будет воля», – этого он сказать не может, как сын – Отцу, потому что не знает ни Отца, ни Сына; но, кажется, в смирении перед неведомым Божеством с покрытым лицом, упала на него тень Сына.
«Человек, упоенный Богом», – сказал кто-то о Спинозе; о Наполеоне можно бы сказать: «Человек, упоенный Роком».
«Бог мне дал ее; горе тому, кто к ней прикоснется! Dieu me l’а donnee; gare a qui la touche!» – воскликнул он, венчаясь в Милане железной короной ломбардских королей. Бога вспомнил для других, а про себя мог бы сказать: «Мне дал ее Рок!»
Вот отчего на лице его такая грусть или то, что глубже всякой человеческой грусти, – нечеловеческая задумчивость: это запечатленность Роком, обреченность Року.
«Когда я в первый раз увидел Бонапарта в мрачных покоях Тюильрийского дворца, – вспоминает Редерер, – я сказал ему: как грустно здесь, генерал!» «Да, грустно, как величие!» – ответил он. [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 84.] «Есть у него всегда, даже на войне, в воззваниях к войску, что-то меланхолическое». [Ibid.] В самом пылу действия не покидает его ничем не утолимая, не заглушаемая грусть или задумчивость.
«В минуты откровенности он признавался, что был грустен, без всякого сравнения со всеми своими товарищами, во всех житейских положениях». [Rémusat C.-é. G. de. Mémoires. Т. 1. P. 267.] «Я не создан для удовольствия», – говорил он меланхолическим тоном. [Ibid. P. 242.]
«Люди мне надоели, почести наскучили, сердце иссохло, слава кажется пресной. В двадцать девять лет я все истощил», – пишет он в самое счастливое время своей жизни – время Египетской кампании. Это уже «мировая скорбь». Кажется, он первый приоткрыл эту дверь в кромешную ночь, и стужа междупланетных пространств ворвалась в комнату.
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя.
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока,
Под знойным солнцем бытия.
Наполеон улыбается или хохочет, но никогда не смеется. [Fain A. J. E. Mémoires. P. 287.] «Кто заглянул в пророческую бездну Трофония, уже никогда не будет смеяться», – думали древние.
«Всегда один среди людей, я возвращаюсь домой, чтобы мечтать наедине с самим собою и предаваться меланхолии. О чем же я буду мечтать сегодня? О смерти», – пишет в своем дневнике семнадцатилетний артиллерийский подпоручик Бонапарт, в бедной комнатке Оксонских казарм. И на высоте величия император Наполеон носит на груди ладанку с ядом. Мысль о самоубийстве сопровождала его всю жизнь, хотя он и знал – «помнил», что себя не убьет. И не от каких-либо внешних несчастий приходит ему эта мысль, а от того, что он устает спать «летаргическим сном» жизни и хочет наконец проснуться, хотя бы в смерть.
«Бури ищет всегда твой беспокойный дух, – говорит ему Жозефина. – Сильный в желаниях, слабый в счастье, ты, кажется, только себя одного никогда не победишь». [Ségur P. P. Histoire et mémoires. Т. 4. P. 70.]
Зачем ты обрек Гильгамеша покоя не знать,
Дал ему сердце немирное,—
жалуется Богу мать богатыря. И Наполеон, как Гильгамеш, – «друг печали».
От тебя даже жизни ищу я;
Для него прохожу через степи,
Через моря, через реки,
Через горные дебри.
Беды, муки меня изнурили,
Исказили мой образ прекрасный, —
мог бы он повторить древневавилонскую молитву к богине Иштар. И доныне путь Гильгамеша-Наполеона не кончен: вечно скорбящий, стенающий, как бы гонимый неведомой силой, все идет и идет он, остановиться не может, подобно Агасферу и Каину. Путь его – путь всего человечества.
Он движется не по своей воле: кто-то бросил его, как бросают камень. «Я обломок скалы, брошенной в пространство. Je suis une parcelle du rocher lancée dans l’espace». [Las Cases H. Le memorial… T. 3. P. 266.] Только продолжает на земле бесконечную параболу, начатую где-то там, откуда брошен, и нашу земную сферу пролетает как метеор.
8 августа 1769 года, за семь дней до рождения Наполеона, появилась комета, которую астроном Миссиэ наблюдал с Парижской обсерватории. Хвост ее, блестевший чудным блеском, достиг в сентябре 60 градусов длины и постепенно приближался к солнцу, пока наконец не исчез в лучах его, как бы сама комета сделалась солнцем – великой звездой Наполеона.
А в первых числах февраля 1821 года, за три месяца до смерти его, появилась над Св. Еленою другая комета. «Ее видели в Париже 11 января», – пишет астроном Фей (Faye). «В феврале сделалась она видимой простому глазу, и хвост ее достигал 7 градусов. Ее наблюдали по всей Европе, а с 21 апреля по 5 мая и в Вальпарайзо». Значит, в обеих гемисферах небес, по всей Атлантике, последнему пути Наполеона.
«Слуги его уверяют, будто бы видели комету на востоке, – записывает в дневнике своем доктор Антоммарки 2 апреля 1821 года. – Я вошел к нему в ту минуту, когда он был встревожен этим известием. „Комета, – воскликнул он в волнении. – Комета возвестила смерть Цезаря… И возвещает мою…“ [Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. Т. 2. P. 54.] „5 мая (день смерти Наполеона), – сообщает тот же астроном Фей, – можно было с острова Св. Елены видеть в телескоп, как эта комета, постепенно удаляясь от земли, исчезла в пространстве“». [Ibid.]
«Несчастный! Я его жалею, – писал никому еще не известный артиллерийский подпоручик Бонапарт в 1791 году о гениальном человеке – о самом себе. – Он будет удивлением и завистью себе подобных и самым жалким из них, le plus miserable de tous… Гении суть метеоры, которые должны сгорать, чтобы освещать свой век». [Napoléon. Manuscrits inédite, 1786–1791. P. 567.]
Сгорать, умирать, быть жертвою – таков удел его, – это он знает уже в начале жизни и еще лучше узнает в конце, на Св. Елене, под созвездием Креста: «Иисус Христос не был бы Богом, если бы не умер на Кресте». Но знание это темно для него, как солнце слепых: свет солнца не видят они, только теплоту его чувствуют – так и он.
Богу солнца Молоху приносил он жертву на острове Горгоне, а на Св. Елене приносится в жертву сам – кому – этого он не знает; но думает – Року.
В солнце померкла звезда его. Что это за солнце, он тоже не знает и тоже думает, – Рок.
Роком называли древние то, что мы называем «законом природы», «необходимостью». Существо обоих – смерть, уничтожение личности, ибо закон природы так же безличен, как рок. Надо было выбрать жизнь или смерть, кроткое иго Сына или железное – Рока. Мы выбрали последнее и падаем жертвами его, так же как наш герой. Наполеон самый великий из нас и «самый жалкий».
Кажется, вещий сон его подобен сну Иакова. «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолеет его, сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Иаков борется с Богом, а Наполеон – с Сыном Божьим. Борется с Ним Наполеон-Человек, так же как все отступившее от Христа человечество.
«Удалось ли христианство?» – нечестивый вопрос. Надо бы спросить: удалось ли наше европейское христианство? Спасется ли оно со Христом или без Него погибнет, как вторая Атлантида? Этот вопрос и задал нам «человек из Атлантиды» – Наполеон.
Он последний герой Запада.
Придя на запад солнца,
увидев свет вечерний,
поем Отца, Сына и Духа, Бога! —
пели христиане первых веков. Мы уже никому не поем, глядя на вечерний свет Запада, окружающий нашего последнего героя сиянием славы. Свет вечерний – за ним: вот почему лицо его так темно, невидимо, неизвестно для нас и, по мере того как свет потухает, все темнее, все неизвестнее. Но, может быть, недаром оно обращено к Востоку: первым лучом озарит его восходящее солнце Сына, и мы тогда увидим, узнаем его.
Да, только узнав, что такое Сын Человеческий, люди узнают, что такое Наполеон-Человек.
Примечания
1
Впоследствии Наполеон еще немного подрос, и рост его в итоге достиг значения в 5 футов 2 дюйма и 4 линии. Это составляет примерно 169 см. Учитывая, что мы приводим цифры роста конкретного человека, жившего в XVIII – первой трети XIX в., нельзя не развеять одного из самых нелепых мифов о Наполеоне. Принято почему-то считать, что Наполеон был маленького роста. Даже сегодня это заявление прозвучало бы не вполне корректно, а уж применительно к физическим константам эпохи Бонапарта вообще является глупостью. Вердикт не вызывает сомнений: император был реально выше среднего роста! И даже более того: добавить бы ему всего 3 см, и его (будь он не Наполеоном Бонапартом!) с радостью зачислили бы в славные ряды гренадеров, куда брали только самых рослых представителей мужского племени. – Здесь и далее примеч. Г. Благовещенского.