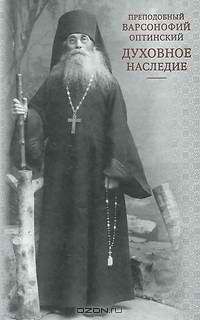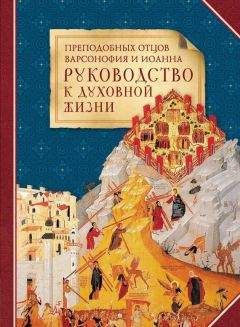Василий Ян - Том 4
Сострой, батюшка, сострой новый теремок!
Светик мой аленький, розовый, малиновый?
Проруби-ко, батюшка, три окна косящатыи!
Перво-то окошечко на большу дороженьку,
Другое-то окошечко во зеленые лужки,
Третье-то окошечко на сине морюшко.
По синему морюшку кораблики плавали,
Кораблики плавали не с простыми товарами, —
С купцами и с боярами.
Записана в деревне Козынево, Елабужского уездаУ КОСТРА
Тихая ночь спустилась над степью. На горизонте еще пылает багровая полоса неба и на ней черными силуэтами вырисовываются пасущиеся лошади.
Отчетливо слышно, как они неровно переступают спутанными ногами. В сонном воздухе, над неподвижной росистой травой, звуки доносятся, как над поверхностью озера, и откуда-то, близко ли, далеко ли, слышны чьи-то голоса. Небо темное, облака мрачно нависли над отлогим холмом, через который ведет дорога, и на его вершине изредка вырисовывается идущая шагом лошадь, лениво везущая поскрипывающую телегу, постукивающую на сухих кочках, с неподвижной фигурой дремлющего мужика на ней.
Несколько парней лежат на рогожах и тулупах вокруг костра и разговаривают вполголоса. Яркое пламя и красные угли освещают их загорелые лица, а за ними высокие неподвижные стебли растений с белыми цветами, над которыми вьются ночные бабочки. Один парень, лежа на спине, раскидав длинные ноги, начинает петь:
…Мне не спится, не лежится,
Сон не берет.
Я сходил бы ко любезной,
Сам не знаю, где живет…
Над дремлющей степью звонко понеслись чистые звуки и с холма эхом возвратилось последнее слово. Парень смолк и, перевернувшись на живот, стал свертывать цигарку. В наступившей тишине тьма, спустившаяся над степью, показалась еще гуще и как будто со всех сторон понадвинулась к костру. А откуда-то из степи зазвенел женский голос:
…Кто меня да девчоночку
Да полюбит эту ночку?
У кого душа стражает,
Ен ко мне дорожку знает…
Опять замолкла песня и опять тишиной заволокло кругом. Певший парень приподнялся и с равнодушным видом докончил свертывать цигарку, обратился к соседу:
— Ваня, ты последишь здесь за огнем?
Медленной раскачивающейся походкой парень удалился во мрак. Далеко, в разных местах, один за другим начали петь женские голоса, к ним присоединились новые, и не смолкая зазвенели над степью. Точно нехотя, другие парни вставали по очереди и исчезали во мраке ночи, пока на рогоже возле костра не остался один парень. Он бросил на угли охапку сырого хвороста, в середине возник желтый огонек; он то потухал и синие струйки дыма вились по сучьям, то вспыхивал и желтым светом озарял лежащего голубоглазого парня, задумчиво молчавшего, положив голову на руки.
По траве шуршат шаги, и в полосу света к костру подходят высокий крестьянин и с ним маленькая девочка. Крестьянин одет по-дорожному, с лыковой котомкой за плечами, посохом в руке, в лаптях и высокой войлочной поярковой шляпе. Девочка в малиновом сарафанчике, тоже с котомкой, в больших, не по ноге, лаптях.
— Здравствуйте, добрые люди! — говорит прохожий; девочка хватает его за полу кафтана, смотрит робко и любопытно.
— Здоров буди! — равнодушно отвечает лежащий парень.
— Умаялся-то на дороге. Да и холод сдымается к ночи.
— Садись к костру; огня-то чего жалеть!
Прохожий снимает котомку, опускается на землю. Девочка, став на колени, греет руки перед костром.
— Степь-то как у вас тянется! Ни одной деревни. Как вышел из лесу, так все, чай, полем шли. Место-то какое напольное!
— Да, степь теперь потянется, поди, до самой Казани. А наша деревня здесь сейчас за горой, версты две только. Мы здешние.
Костер разгорелся, и при его пламени казалось медно-красным суровое загорелое лицо прохожего, с темной бородой, прямыми жесткими волосами.
— Цыгане здесь не проезжали ли?
— Цыгане, говоришь? Нет, давно цыган не видно было. Все обозы шли и порожнем мужики возвращались. А на что тебе цыгане?
— Это я так, к слову спросил. Мужика я встретил, очень уж он убивается. Шли мы это полем. Кругом гладко, далеко видно на поле. На холм выйдешь, тоже верст за десять кругом видать, как на ладони. Говорит моя девчонка: «Тятька, никак человек за нами бегит!» Оглянулся я, и впрямь вдали будто точка чернеет. Вроде человек бежит по дороге и то припаднет на землю, то опять вскочит и быстрым бегом по дороге бежит. Оно-то сразу и боязно стало… Но, думаю, недобрый человек так не побежит, а хорониться станет. Верно, ума лишился человек. Но и такого тоже страшно, кто себя не помнит, тот будто зверь, и на другого кинуться может. Но все-таки сели мы на холмике под иконой Казанской богоматери, на перекрестке, ждем, не нас ли, поди, ищет? Когда близко уже был, вижу, человек будто помешался, бежит весь красный, в пыли, грязи вывалялся, и слезы из глаз, и пот текут, по лицу размазались. А глаза его ровно как у полоумного. Увидел он нас и прямо к моей девчонке:
— Манька! — закричал он, — ты ли это?
Я его отстранил рукой и говорю:
— Очнись, очумел ты! Где ты видишь Маньку? То моя дочь Оленка!..
Тут упал он на дорогу лицом и заплакал. Стал я его утешать, поднял, посадил под иконой Казанской. Тут он нам про себя и рассказал: «Был я, — говорит, — в Сибири. Ушел в тайгу, золото промывал. Ну, намыл достаточно, думал, можно и справить все, что нужно, и дело какое завести. А жену и детей четверых в деревне оставил. Не писал им, конечно, давно. В тайге — какие там письма писать! Будь счастлив, коли живой и приятели не придушили. А жена, поди, полтора года без писем жила». Денег ей он тоже не присылал. А положение в деревне, знаешь, какое теперь — лишний рот, значит, сам без хлеба сиди. Ссуду тоже выдают мимо десяти на одиннадцатого. Жене евоной никакого пайка не вышло. Билась она, билась.
Одну дочку вотякам отдала, будто взаместо родной дочки. Известно, вотяки часто без божьего благословения остаются, а и лестно им, конечно, русскую дочку иметь. Так за нее она не беспокоилась: ее вотяки так накормят, что растолстеет.
А еще трое на руках остались, хлеба нет, чем их воспитывать? Другие мужики, что тоже в Сибирь ходили, давно все поворочались. Говорили, что «мужа твоего, дескать, не встречали, поди, помер!». Долго ждала молодуха и пошла девчонок в услуженье отдавать; думала: здесь не отдаст, в Казань сходит и там куда наймется, а девчонок по чужим людям разделит. Нянькой, или приемышем, может, кто возьмет.
Ушла она. А через день муж в деревню возвращается. Фартовым парнем пришел, денег сотни четыре принес, жене, детям подарки накупил. А как подошел к своей избе, видит — окна досками заколочены — и грохнулся на землю! Пришли соседи, говорят ему — беги скорей, жена вчера ушла дочек продавать. Побежал он по дороге, всех спрашивает: «Не видали ль бабы с тремя детьми?» Одни говорят — не видали, много народу идет по дороге, всех не упомнишь, а кто говорит, что и видел…
Когда этот мужик упал возле нас, мне дюже жалко его стало, взял я его за плечо и дальше пошли мы вместе. Я держу его, говорю, что скоро нагоним: куда же далеко за день уйти бабе да еще с ребятами? А как пришли мы в деревню, мужик бросился из избы в избу спрашивать: «Не видали ли бабы с тремя детками?» В одной сказали, что видели бабу, но с двумя. Она, поди, еще не вышла из деревни, сидит где-либо в крайней избе.
Мужик побежал дальше по всем избам спрашивать. Не знаю, ужо нашел ли?
А мы с дочкой пошли дальше…
Пока прохожий рассказывал свое, со степи пришли две девушки в красных кумачовых сарафанах. Обнявшись, подошли они к костру и стояли, озаренные пламенем раскаленных углей. Рассказ их заинтересовал и они сели на рогожу, так же обнявшись, как пришли.
— Так ты и не знаешь, — спросила одна, — нашел ли он свою молодуху?
— Не знаю. Верно, нашел, а то он бы нас нагнал по дороге.
— А я бы своего ребеночка никогда в чужие руки не отдала! Лучше бы по миру с ним ходила.
— Ну, не скажи, моя тетерочка. Было бы у тебя их пятеро, а дома есть нечего, так лучше бы в чужие люди отдала, там, может, и накормят. А нынче и по миру ходить — везде ли найдешь кусочек?
— А свою девчонку ты куда ведешь?
— Не я веду, а сама она напросилась. Хотел оставить ее у крестной, да говорит — возьми да возьми с собой! Да ты устанешь, глупая! Нет, говорит, тятька, я легкая, не устану. Ну, иди на богомолье, сказал я. Вот мы, поди, полдороги уже прошли. В лаптях-то не очень ногу собьешь. Ну, в город придем, там я ей сапоги надену. С собой в котомке несу.