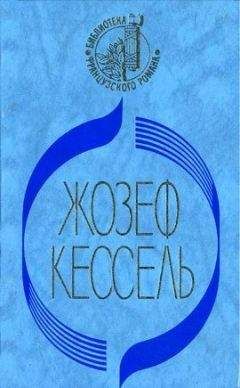Жозеф Кессель - Всадники
Теперь он был вымыт. Чистое лицо носило на себе следы испытаний и мучений, выпавших на его долю. Кости выпирали наружу. Землистого цвета кожа свисала, словно подвешенная на острые скулы. Раскосые глаза ничего не выражали. Одет он был все в тот же чапан, из которого давно уже вырос. Из рукавов вылезали худые руки. Он был похож на быстро выросшего подростка.
– Чего тебе? – спросила Зирех.
Понял ли Мокки, что она сказала? Он с испугом разглядывал раны, кровоточащие полосы, царапины, следы укусов на теле и на лице кочевницы. Она выпрямилась и развела плечи, выставляя напоказ следы мучений. Громко сказала:
– Это Уроз.
– Знаю, – кивнул Мокки. – Я слышал.
Спокойная гордость светилась в глазах Зирех, один из которых опух от ударов и был открыт лишь наполовину. Она повторила вопрос.
– Чего тебе надо?
– Хочу уехать с тобой, – ответил Мокки. Зирех сделала движение, показывающее, что она продолжает свой путь. Мокки попытался удержать ее за платье. Кусок ткани остался у него в руке. Он встал перед ней и умоляющим голосом сказал.
– Послушай, нет, послушай, клянусь Пророком. Я буду работать… У нас есть Джехол. Мы сделаем с ним, что ты захочешь.
Зирех не отвечала. У Мокки появилась надежда. Брови кочевницы собрались в одну черту. Привычное выражение хитрости и жадности вернулось к ней. Рваная, исцарапанная, с подбитым глазом, она являла собой картину самого наглого бесстыдства.
«Заставлю его продать лошадь… заберу себе деньги… и в первую же ночь убегу», – думала кочевница. Мокки боялся шевельнуться, боялся дышать. В наступившей тишине до Зирех донеслись бесхитростные слова старого конюха:
Вернувшись домой, наш Уроз
Всех милостиво рассудил,
И лучший из всех чопендоз
Аллаху премного угодил.
Услышав первые же слова, Зирех закинула вверх голову. Полуденное солнце озарило ее лоб. Брови разошлись. Хитрое, настороженное выражение алчности исчезло с лица. Оно сменилось мирной, хотя и не лишенной высокомерия уверенностью.
Старик умолк. Губы его беззвучно шевелились в поисках слов для следующих куплетов. Зирех опустила взор с небес и удивилась, увидев перед собою Мокки.
– Ты возьмешь меня с собой? – спросил он робко.
– Не могу, – ответила Зирех просто и спокойно. Она не хотела так отвечать и не собиралась произносить эти слова. Это ответила не она, лживая кочевница, воровка, мелкая шлюха, готовая отдаться и продаться первому встречному. Слова эти произнесла молодая женщина за свою царственную, дикую страстность избранная мужчиной, которого уже воспевают барды, женщина, надеющаяся, что во чреве ее поселился первый ребенок принца, героя. Как может она принять этого жалкого парня, нищего, готового все стерпеть? Как может она его обмануть, ограбить и тем самым вернуться в свое прежнее презренное положение?
Мокки, а тем более Зирех не могли бы назвать неизвестную им силу, сделавшую ясным и строгим ее лицо, помеченное следами побоев и неудержимого сладострастия. Увидев достоинство и благочестие на этом лице, Мокки невольно отступил и дал ей пройти. И она ушла, исчезла среди деревьев и кустов, усыпанных осенними цветами. А Мокки поплелся в другую сторону, куда глаза глядят. Его руки свисали с плеч, как высохшие ветки деревьев.
* * *Уроз приподнялся на локте на своем ложе, с которого, как он думал еще совсем недавно, ему не захочется никогда встать. Услышал, как поет старческий голос:
Уроз, наша честь и краса,
Повсюду, в горах и степях…
Уроз поднял голову, прислушался. Он знал этот мотив, на который степняки обычно слагали баллады о высоких подвигах и разные предания. Но при чем тут его имя?
А дрожащий голос продолжал:
От самой земли в небеса
Летит твоя слава в веках.
Уроз, сын Турсуна, ты сам,
Как сокол, паришь в облаках.
Песня умолкла. Уроз откинулся на подушки. Слова были о нем, слова новой легенды, наложившиеся на старую мелодию. Песня распространится по имению, по соседним базарам. Сказители, барды с несравненно большим, чем у старого слуги талантом, придумают более красивые строфы, и те пойдут из уст в уста, разносимые повсюду всадниками и караванщиками, качающимися на горбах своих верблюдов. Из кишлака в кишлак, из чайханы в чайхану, песня обежит все степи. Вот она, слава, к которой он так стремился… Слава, переживающая прах… Урозу показалось, что эта богатая юрта превратилась в могилу, в склеп, возведенный над его останками.
* * *Старик не успел продолжить свои славословия. Уроз услышал топот нескольких коней. Затем в юрту вошел Рахим, сообщивший, что Турсун приглашает его под деревья, на берег ручья.
– Приведи лошадь, которая меня ждет, – сказал Уроз.
Как только Рахим вышел, он встал, добрался, подпрыгивая на одной ноге, до выхода, вскочил в седло и поехал за слугой до замшелой беседки с крышей из переплетенных ветвей и листьев и с ручьем, протекающим как раз посреди ее. Два саиса покрыли землю яркими коврами, разожгли самовар и доставали из мешков посуду и пищу.
Уроз подождал, когда закончатся приготовления, спешился и сел напротив отца. Они обменялись приветствиями, которые полагались. Саисы отвели лошадей. Турсун спросил у Уроза:
– Получил костыли?
– Получил, – отозвался Уроз.
– Примерил? – задал новый вопрос Турсун.
– Примерил, – ответил Уроз.
– Подходят? – продолжал расспрашивать Турсун.
– Прекрасно, – заверил его Уроз.
– Почему же ты приехал без них? – посмотрел на него Турсун.
– Потому что, – не захотел объяснять Уроз.
Такой ответ сына – оскорбление для отца, тем более для Турсуна. Но Турсун не показал виду. Направляя Урозу эти инструменты инвалида, он знал, что сын будет взбешен. Но он знал также и то, что Уроз должен как можно скорее привыкнуть к своему новому положению.
«Если мальчика, которого сбросил конь, не заставить тут же снова сесть на него, то он всегда будет бояться ездить верхом», – подумал Турсун. И спокойно отметил:
– Не знал, что у моего сына уважение и вежливость умещались только в одной ноге.
Уроз промолчал, Турсун запустил руку в котел, полный плова шафранно-сизого цвета, лоснящегося от жира, обжигающего рот острыми специями, сдобренного кусками баранины, съел все, что зачерпнул, облизал пальцы и ладонь, а затем спросил:
– Ты не узнал эти костыли? Это мои.
Уроз собирался тоже опустить руку в плов. Рука его повисла в воздухе.
– Что? – не смог скрыть своего удивления он. – Это те…
– Те, что служили мне, когда я разбил правое колено и сломал левое бедро, – подтвердил Турсун.
Уроз вытащил из котла горсть шафранного риса. Вкуса его он не почувствовал. Он вспомнил, как тридцать лет назад Турсун, тогда в зените славы, прыгал на этих подпорках по дворам и конюшням, по базару Даулатабада.
– Это же было только на какое-то время, – сказал Уроз.
– Тогда я не был в этом уверен, – не согласился Турсун.
Он вынул из плова баранью кость и разгрыз ее своими желтыми зубами. Потом спросил:
– И что же, по-твоему, мой авторитет тогда упал из-за этого?
– Воистину, не упал, даже наоборот, – произнес сын неожиданно для себя.
Он вспоминал лица людей, как в имении, так и в селе, проявлявших к Турсуну на костылях и уважение, и дружеское расположение еще больше, чем прежде. Он сказал:
– В таком возрасте легче смириться.
Турсун медленно расправил плечи и, устремив на Уроза тяжелый взгляд желтых глаз, ответил:
– В то время мне было меньше лет, чем тебе сейчас. Посчитай.
Уроз посчитал. И не поверил цифрам. Еще раз посчитал. Пришлось согласиться. Тот старик, каким ему казался тогда Турсун, был на самом деле моложе, чем он, Уроз, сегодня.
Чтобы избежать взгляда желтых глаз, Уроз принялся жадно есть. Но остановился, уловив в голосе Турсуна какую-то особую интонацию.
– Я хорошо помню, Уроз, то время, – сказал Турсун. – Тогда я еще не был Главным Конюшим.
Он опустил голову, прикрыл немного веки и попросил Рахима налить чаю.
– И мне тоже, – попросил Уроз.
А Турсун продолжал:
– И вот уже двадцать лет, как я исполняю эту должность… Воистину, слишком долго. Но не вижу никого, кто бы мог ее исполнять… кроме тебя.
Чашка в руках Уроза звякнула о блюдце. Он поставил ее рядом с собой. Этот жест дал ему время сдержаться и ответить, не показывая своего отвращения к такой отставке, которую предлагал ему Турсун.
– Спасибо большое, но такая честь превышает мои возможности, – ответил он.
– Подумай до завтрашнего дня, потому что завтра возвращается Осман-бей, – настаивал Турсун.
И перешел к последнему и самому трудному вопросу, над которым он хотел предложить сыну подумать.
– Возвращается вместе с Салехом, – сообщил он.
– С Салехом… – повторил Уроз, и губы его побледнели.