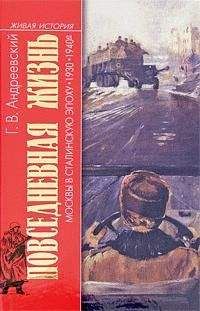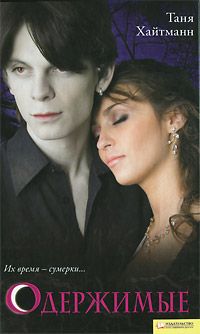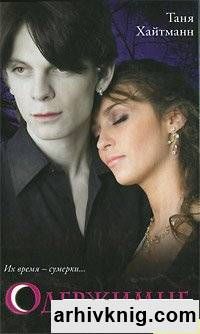Георгий Андреевский - Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху, 1920-1930 годы
Тридцатые годы стали вообще временем массовых гуляний, массовых игр и массовых шествий. Ради них руководители нашего государства были готовы снести храм Василия Блаженного и Исторический музей. К проведению торжественных мероприятий готовились, их фотографировали, снимали на кинопленку. Например, в Управлении московских зрелищных предпри ятий (УМЗП) по случаю 1 Мая 1932 года был разработан специальный план. В нем говорилось, что в основу организации 1 Мая должны быть положены решения XVII партконференции, а целями проведения праздничных шествий должны стать мобилизация творческой инициативы трудящихся на успешное завершение пятилетнего плана, разоблачение интервенционистических планов империалистов против СССР, пропаганда огромных достижений ленинской национальной политики и пропаганда боевых задач Коминтерна. Шествие по Москве должно было продемонстрировать также готовность советских людей к решительному и развернутому наступлению на капиталистические и оппортунистические элементы.
Составители плана указывали, что, «реализуя участие в демонстрации, нужно иметь в виду не только оформление карнавальной машины, но и колонны работников театра, а также подбор словесного и музыкального текста для карнавала. Надо добиться, чтобы все колонны театров вносили максимум оживления, красочности, бодрости в ряды демонстрантов, являя образцы затейничества, коллективной декламации и массовых песен». Каждому театру предписывалось, какой теме должно быть посвящено оформление его колонны, его передвижного стенда. Так, Театр Революции должен был сделать передвижную выставку на тему «Коммунистическое движение на Западе. Классовая борьба в Европе и Америке», Театр оперетты — на антирелигиозную тему, Театр сатиры — показать успешное построение социализма в СССР и безработицу в капиталистических странах и т. д.
С годами политический смысл демонстраций, по крайней мере для ее участников, улетучивался. На демонстрацию шли компаниями, с гитарами, аккордеонами. Колонны были большие, двигались медленно, и люди успевали напеться, натанцеваться, а также выпить и закусить. Было шумно и весело. Для кого-то, наверное, участие в демонстрации было нежелательным, но не пойти на нее значило дать повод к осуждению со стороны партийной и профсоюзной организации. В конце тридцатых годов участие в демонстрации давало возможность увидеть Сталина. Отказаться от такого «счастья» советский человек не мог, во всяком случае, не должен был.
И все же, несмотря на все запреты, принуждения, ограничения и прочее, в нашей стране существовали замечательная эстрада, оперетта, цирк, ведь эти жанры служили отдушиной в условиях подавления личности идеологией. Многое из прошлого теперь покажется бедным, даже примитивным, и тем не менее по талантливости и душевному теплу, которое актеры отдавали публике в своих выступлениях, эпоха, подобная этой, наступит не скоро, может быть, не наступит никогда, а имена Утесова, Шульженко, Ярона, Карандаша и многих-многих других останутся в памяти народной.
Глава девятая
«Коммуналки» и «бывшие люди»
Общежития. — Теснота и грязь. — Борьба за существование. — Инженер Дцинзелъский. — Смерть домоуправа Коромыслова. — «Калгановщина». — Выселение «бывших». — Пощечина «отцу русской демократии». — Зять германского императора. — Церковь и власть. — Болтуны. — «Сборища» монархистов. — История профессора Плетнева. — Неудачники. — Поджигательница. — Опустившиеся аристократы. — Чистки. — Аукционы. — Дюрер на Смоленском рынке. — Русский язык и время.
Когда в России плохо, люди ее «глубинки» бегут в Москву. Столица, как свеча на ветру, сама вот-вот погаснет, а манит к себе, как последняя надежда. Начинается внутренняя миграция из разоренных и окровавленных городов и селений в уют тесного московского жилья, к свету улиц, к человеческому общению. Многообразие голосов из разных мест сливается в единый хор, возглашающий единственное стремление чеховских трех сестер: «В Москву, в Москву, в Москву!»
Сюда, в Москву, после революции устремились, чтобы не сдохнуть с голода, чтобы не замерзнуть, не одичать, чтобы учиться, работать, найти свое место под солнцем, тысячи и тысячи граждан «новой свободной России». Стремились, не задумываясь о том, где жить, где работать. Вместе с собой несли в Москву свои взгляды, привычки, сложившиеся в «вороньих слободках», деревнях и местечках. Перебравшись в столицу, пользовались ею, чтобы выжить, не спрашивая о том, может ли она принять всех желающих. Москва-старушка прогибалась, кряхтела, но терпела.
Летом 1921 года в Москву прибыли тысячи беженцев из голодающего Поволжья. На Казанском вокзале в связи с этим был организован «питательный пункт», в помещении Зачатьевского монастыря на Остоженке разместили две тысячи детей.
Война, объявленная новым строем дворцам, увеличила число хижин, превратив в них бывшие дворцы. В течение пяти лет после революции отопление в городе не работало. От холода и сырости дома осели, их стены потрескались, рамы в окнах покосились, стекла полопались. Люди стали покидать свои насиженные гнезда. В Москве образовались так называемые «рваные дома», где полностью или частично перестала теплиться жизнь, а остались трещины, облупленная штукатурка да забитые досками провалы окон. Вот как описывается состояние дома 9 по Большой Дмитровке (это второй дом от Камергерского в сторону Столешникова переулка, принадлежал он тогда Москоммунхозу) в решении Особой сессии Советского народного суда Москвы от 3 сентября 1922 года: «…Системы водопровода, канализации и отопления разрушены, в квартирах отсутствовали водопроводные краны, раковины и батареи центрального отопления, сняты кухонные плиты, в большинстве квартир разобраны полы, всюду грязь, мусор».
Не вынесли испытания холодом в суровую зиму 1919/20 года и многие домишки на окраинах. Люди покидали их и переселялись в городские квартиры. В Москве шло «уплотнение». С его помощью государство смогло освободить для новых жильцов двенадцать тысяч комнат. В них-то и устремились жители подвалов, рабочих окраин и приезжие. Стало тесно, но к тесноте в столице было не привыкать. Еще до революции здесь существовало такое понятие, как «коечно-каморочные квартиры». Их было свыше двадцати семи тысяч и жили в них триста пятьдесят тысяч человек. Что эти квартиры из себя представляли? Крошечные комнатки-клетушки, отделенные друг от друга перегородками, не доходящими до потолка, общие кухни, уборные. В «передних» таких «квартир» и коридорах стояли койки для «одиночек».
После революции стали создаваться в Москве «дома-коммуны». Как правило, это были большие, хорошие здания, из которых полностью выселялся весь «нетрудовой элемент», а заселялись они жителями пролетарского происхождения. Эти дома государство ремонтировало за свой счет, снабжало конфискованной мебелью, бесплатным топливом и создавало «коммунистические учреждения»: ясли, детские сады и пр. В середине двадцатых годов в такие «дома-коммуны» было переселено тридцать три тысячи рабочих и двенадцать тысяч служащих.
Но хороших больших зданий Москве явно недоставало. Это и не удивительно. Ведь с 1914 года, с начала «германской» войны, в Москве ничего не строилось. Кроме того, немало домов в центре города заняли разные учреждения переехавшего сюда в 1918 году из Петрограда советского правительства.
Теснота, отношение граждан к захваченному жилью как к чужому, а не своему собственному, низкая культура людей, привычка жить в плохих условиях — все это уродовало и захламляло город.
Даже в учреждениях далеко было до элементарного порядка. Вот как выглядели в 1918 году некоторые из них: «…Полы, особенно в передних, покрыты грязью чуть ли не на вершок, стены сплошь оклеены разными циркулярами, объявлениями и пр. С потолков падает накопившаяся месяцами пыль, оконные стекла совершенно непроглядны от грязи, помещения, как канцелярии, так и передних, накурены едким дымом, и полы устланы окурками…»
Общежития тоже глаз не радовали. Особенно мрачно выглядели общежития рабочих. Даже названия рабочие придумывали им отнюдь не веселые: «Соловки», «Бутырки», «Бардачки». Вот, например, как выглядело одно из них в 1925 году. Это была казарма с высокими потолками на шестьдесят кроватей. У двери топилась печка, обитая железом. К ней прислонялись валенки для сушки. Жалобно хрипел граммофон. Несколько мальчишек в пальто и шапках курили, играли в карты, матерились. Полы в уборной были залиты мочой. Выйдя из этого смрадного места, люди, не снимая обуви, ложились на свои кровати. Все к этому привыкли. Никому и в голову не приходило сделать им замечание.
Не лучше была обстановка в общежитии Краснохолмской фабрики. В комнатах накурено. От цементных полов зимой холодно, а летом пыльно. Кровати тесно сдвинуты, постели смяты и сбиты в сторону сапогами. На них ложились не раздеваясь и не снимая сапог. Наволочки на подушках лоснились от давно не мытых, сальных голов. В мужской комнате на шестьдесят кроватей приходилось восемьдесят жильцов, из них несколько жен рабочих с детьми. Некоторые кровати так и были заняты целыми семьями. На полу окурки и плевки. Вентиляция отсутствовала. Было душно и шумно. Среди проживавших встречались довольно колоритные личности, например комсомолец Журавлев. Последний раз его умыли сразу после рождения, и с тех пор он являлся ярым противником всех средств личной гигиены, утверждая, что бактерии от грязи дохнут. Это ведь о Журавлеве местный врач сказал: «Все, что на нем и на его постели, нужно сжечь, а его вылечить». Нам теперь трудно сказать, была ли медицина тех лет в состоянии вылечить Журавлева. Товарищи же по общежитию воспринимали его как «ходячую заразу» и требовали выселить, на что Журавлев не реагировал и водил в свою постель проституток.