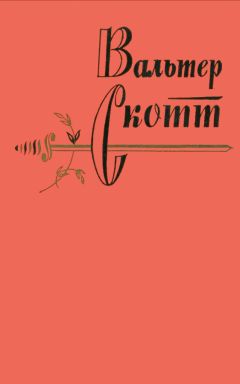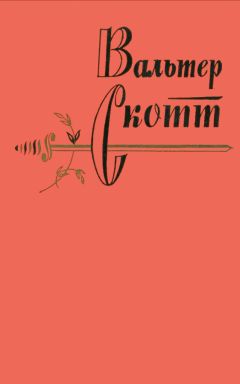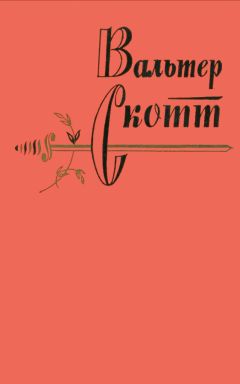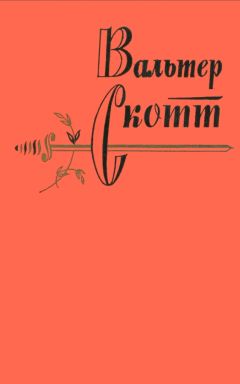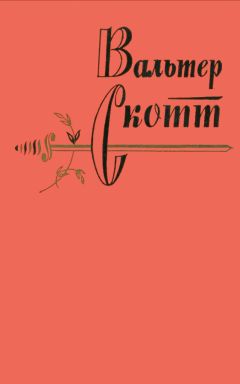Вальтер Скотт - Вальтер Скотт. Собрание сочинений в двадцати томах. Том 1
— Мистер Уэверли сам себе хозяин. Эдуард, мы, я думаю, встретимся с тобой в Пинки, — сказал Фёргюс, обращаясь к Уэверли, — когда ты покончишь со своим знакомым? — С этими словами вождь Гленнакуойха поправил свой плед с выражением несколько более надменным, чем обычно, и вышел из комнаты.
Пользуясь своим положением, Уэверли без труда добился для полковника Толбота разрешения выйти в большой сад, принадлежащий к усадьбе, где он теперь содержался. Несколько шагов они прошли молча. Полковник Толбот, видимо, обдумывал, каким образом приступить к тому, что он собирался высказать. Наконец он обратился к Эдуарду:
— Мистер Уэверли, сегодня вы спасли мне жизнь, но лучше было бы, если бы меня убили, только бы не видеть вас в этой форме и с кокардой этих людей.
— Я прощаю ваш упрек, полковник. Уверен, что вы сделали его из наилучших побуждений. Это вполне естественно, принимая во внимание ваше воспитание и предубеждения. Но нет ничего удивительного в том, что человек, честь которого подверглась открытому и несправедливому поруганию, перешел на сторону, которая обещала ему наилучшие возможности отомстить его клеветникам.
— Я скорее сказал бы — в положение, наилучшим образом подтверждающее возникшие о нем слухи,— заметил полковник Толбот, — ведь вы сделали именно то, что вам приписывали. Известно ли вам, в какую бездну горя и даже опасность вы повергли своих ближайших родственников этим поступком?
— Опасность?
— Да, сэр, опасность. Когда я уезжал из Англии, вашему дяде и вашему отцу было предъявлено обвинение в государственной измене, и им удалось остаться на воле только благодаря вмешательству очень влиятельных лиц, которые выхлопотали им возможность выставить за себя поручителей. Я приехал сюда, в Шотландию, с единственной целью спасти вас из пропасти, в которую вы сами бросились, и сейчас мне трудно себе представить, какие последствия может иметь для родственников ваше открытое присоединение к мятежу, когда одного подозрения в ваших намерениях было достаточно, чтобы поставить их в такое тяжелое положение. Я глубоко сожалею, что не встретил вас прежде, чем вы совершили эту роковую ошибку.
— Я не могу понять, — сказал Уэверли сдержанным тоном, — почему полковник Толбот так заботится обо мне.
— Мистер Уэверли, — ответил Толбот, — я плохо понимаю иронию. Поэтому я отвечу на ваши слова в их прямом смысле. Вашему дяде я обязан большим, чем сын бывает обязан отцу. В свою очередь, я должен проявлять к нему сыновнюю преданность. А я знаю, что ничем другим, как оказывая услуги вам, не могу отплатить ему за все его добро, и вам я буду их оказывать независимо от того, позволите ли вы мне это или нет. Сегодня вы сделали для меня нечто такое, что, по общепринятым понятиям, является величайшим благодеянием, которое один человек может оказать другому. Но ваш поступок ничего не прибавит к моему усердию по отношению к вам, и на это усердие не может повлиять никакая холодность, с которой вы можете его принять.
— У вас могут быть добрые намерения, сэр,— сухо ответил Уэверли, — но выражаетесь вы резко и, уж во всяком случае, слишком решительно.
— Когда после долгого отсутствия я вернулся в Англию,— продолжал полковник Толбот, — я нашел вашего дядю сэра Эверарда Уэверли под надзором королевского эмиссара. Причиной были павшие на него подозрения, вызванные вашим поведением. Он — мой самый старый друг, — сколько раз мне это повторять?— величайший благодетель; свои виды на счастье он принес мне в жертву; он никогда не произнес слова, не имел мысли, которые не были бы проникнуты живейшим доброжелательством. И этого-то человека я нашел под арестом, еще более тягостным для него из-за его привычек, его чувства собственного достоинства и — простите, мистер Уэверли, — из-за причины, навлекшей на него все эти бедствия. Не скрою от вас моих чувств по этому породу: они были весьма неблагоприятны для вас. Добившись благодаря своим связям, которые, как вам, вероятно, известно, достаточно значительны, освобождения сэра Эверарда, я направился в Шотландию. Я повидал подполковника Гардинера, ужасной судьбы которого достаточно, чтобы сделать весь этот мятеж навеки ненавистным. В разговоре с ним я выяснил, что благодаря некоторым дополнительным обстоятельствам — добавочному следствию, произведенному над лицами, замешанными в мятеже, а также его первоначальному доброму мнению о вас, он в последнее время стал относиться к вам значительно мягче. И я не сомневался, что, если только мне посчастливится вас разыскать, дело еще можно будет поправить. Но это злополучное восстание все погубило. Я служу уже давно и немало видел боев, но сегодня я впервые был свидетелем того, как англичане опозорили себя паническим бегством, и притом перед врагом почти безоружным и не знающим, что такое дисциплина; а теперь я вижу наследника моего самого близкого друга, любимейшее его чадо, так сказать, торжествующим победу, от которой он первый должен был бы краснеть. Что мне оплакивать Гардинера? Ведь по сравнению с моей его участь не столь плачевна!
В тоне полковника Толбота было столько достоинства, такое сочетание воинской гордости и мужественной скорби, а известие об аресте сэра Эверарда было сообщено с таким волнением, что Эдуард стоял подавленный, пристыженный, убитый перед пленником, который несколько часов назад был обязан ему спасением. Поэтому он нисколько не был огорчен, когда Фёргюс прервал их беседу во второй раз:
— Его королевское высочество требует мистера Уэверли к себе. — Полковник Толбот бросил в сторону Уэверли взгляд, полный упрека, не укрывшийся от острого глаза вождя гайлэндцев. — Требует немедленно,— подчеркнул Фёргюс с достаточной выразительностью. Уэверли снова обратился к полковнику.
— Мы еще встретимся, — сказал он, — а пока все удобства, которые...
— Мне ничего не нужно, — сказал полковник, — я хочу разделить участь самых скромных из тех храбрецов, которые в этот несчастный день предпочли раны и плен бегству. Я почти готов был поменяться судьбой с одним из павших, только бы быть уверенным, что мои слова произвели на вас надлежащее впечатление.
— Учредить за полковником самый строгий надзор, — сказал Фёргюс гайлэндскому офицеру, наблюдавшему за пленниками, — таково особое приказание принца: это пленный исключительной важности.
— Но не лишайте его удобств, на которые дает ему право его звание, — добавил Уэверли.
— Но лишь в той мере, в какой это совместимо со строгим надзором, — повторил Фёргюс.
Офицер выразил готовность выполнить оба приказания, и Эдуард последовал за Фёргюсом к воротам сада, где Каллюм Бег ждал их с тремя верховыми лошадьми. Обернувшись, он увидел, как целая группа горцев отводила полковника Толбота к месту его заключения; он задержался на пороге и сделал рукой знак Уэверли, как бы подкрепляя то, что сказал.
— Лошадей у нас теперь, — воскликнул Фёргюс,—не меньше, чем смородины в лесу. Только иди да собирай. Садись, Уэверли, Каллюм наладит тебе стремена, и мы поскачем в Пинки-хаус[188] с такой скоростью, на какую только способны эти ci-devant[189] драгунские лошади.
Глава L НЕ ОСОБЕННО СУЩЕСТВЕННАЯ
— Меня вернул с дороги посланный от принца,— сказал Фёргюс Эдуарду, в то время как они скакали из Престона в Пинки-хаус, — но, я полагаю, тебе самому известна ценность такого пленника, как этот высокородный полковник Толбот. Его считают одним из лучших офицеров среди красных мундиров; это ближайший друг и любимец самого курфюрста и этого грозного героя, герцога Камберлендского, которого отозвали от его триумфов после победы под Фонтенуа, чтобы слопать нас, бедных горцев, живьем. Он не говорил тебе, как звонят колокола в Сент-Джеймсе? Может быть, «Вернись, Уиттингтон», как колокола Боу в былые времена?
— Фёргюс,—сказал Уэверли, укоризненно взглянув на него.
— Положительно не знаю, что с тобою делать,— отозвался вождь Мак-Иворов. — На тебя может повлиять каждый встречный. Ты крутишься, как флюгер на ветру. Сегодня мы одержали победу, равной которой не было в истории; поведение твое превозносят до небес; принц желает отблагодарить тебя лично; все красавицы с белыми кокардами передрались из-за тебя, — а ты, preux chevalier,[190] герой сегодняшнего дня, согнулся на своей лошади в три погибели, как какая-нибудь торговка, везущая масло на базар, и вид у тебя самый похоронный!
— Я огорчен смертью бедного подполковника Гардинера; когда-то он был ко мне очень добр.
— Ну хорошо, погорюй минут пять, а потом развеселись; то, что случилось с ним сегодня, может случиться с нами завтра. Подумаешь! После победы все-таки самая лучшая доля — это смерть в бою. Но это pis-aller,[191] каждый предпочел бы смерть противника своей собственной.