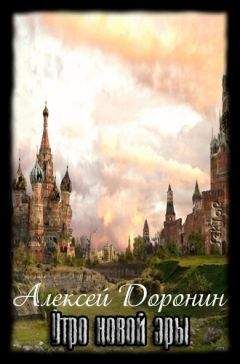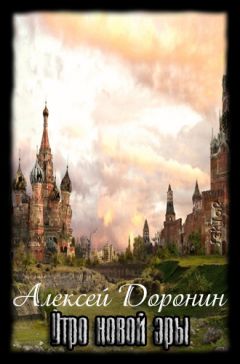Александр Доронин - Тени колоколов
— Ведать хочу, для чего зван вами.
Алексей Михайлович вновь поднялся, сошел с трона, встал перед столом, за которым сидели Патриархи, начал говорить заученным текстом:
— От начала Московского государства в соборной апостольской церкви такого бесчестия не бывало, какое учинил бывший Патриарх Никон…
При слове «бывший», которое Алексей Михайлович особо выделил, Патриархи закивали, а русские священники одобрительно зашумели. Царь продолжил:
— По своей прихоти, самовольно, без нашего дозволения и без дозволения Соборного совета церковь оставил, от патриаршества отрекся, никем не гонимый. И от этого ухода многие смуты и мятежи учинились. Церковь вдовствует без пастыря девятый год… Писал он мне по уходу: будешь, мол, ты, великий Государь, теперь один. Думал, пропадем мы без него. Ан не пропали… Господь не допустил.
Алексей Михайлович осуждающе посмотрел на Никона и вернулся на место, тяжело дыша.
Макарий поднял с кресла свое искривленное туловище, быстро-быстро залопотал по-гречески:
— Оставляя патриарший престол, Никон отрекся от него. Прилюдно сказал: если впредь захочет быть на прежнем месте — да будет ему анафема…
Никон перебил еле успевающего переводить Петра Строева, дьяка Посольского приказа:
— Я так не говорил! От патриаршества не отрекался! Ежели и хотел…
Царь не дал договорить, прервал его гневными словами:
— Известно, что ты писал в посланиях своих к святейшим Патриархам на меня, Государя, многия бесчестия и укоризны.
Никон буркнул невнятно:
— Что написано пером, то не вырубишь топором. Я от своих слов не отрекаюсь.
— Еретик! — перешел на крик Паисий, и лицо его позеленело.
Алексей Михайлович кивнул, и Петр Строев, развернув потертый толстый свиток, начал громко читать. Это было послание Никона Константинопольскому Патриарху Дионисию. Голос дьяка, слышимый даже в конце залы, произносил слова, коими Никон оправдывался в действиях своих. Писал, что оставил он престол Патриарха из-за обиды на Государя, оскорбившего его незаслуженно. Царь слушал, теребя пальцами край своей пышной одежды, по лицу пошли красные пятна. Никон стоял молча, лицо его потемнело, густые брови сошлись на переносице.
Дьяк читал:
— «Послан я был в Соловецкий монастырь за мощами митрополита Филиппа, коего палач-царь Иван неправедно оболгал и умертвил». — Последнее слово дьяк выделил особо, видимо, желая дать Государю лишний козырь в этой словесной баталии.
Тот не преминул этим воспользоваться:
— За что такое бесчестие блаженной памяти великому Государю и великому князю Ивану Васильевичу? О себе, небось, утаил, как сжил со света епископа Павла в Коломне, содрал с него святительские одежды и сослал в Хутынский монастырь, в сруб бросил. Без креста его могила…
— На то воля царская была и Монастырского приказа.
Алексей Михайлович сошел с трона, выхватил из рук растерявшегося дьяка свиток и, тяжело передвигая больные ноги, пошел на Никона.
— А это чья воля?! Не ты ли хулишь церковные уложения, Собором принятые как законы, как жизни основа? К ним руку Патриарх Иосиф приложил и весь священный Собор. И сам ты им присягал, когда был архимандритом.
Никон закрыл лицо руками и, пятясь, сказал:
— Заставили приложиться. Не по своей воле…
— А теперь всех еретиками называешь?! Царя в грехах винишь, себя выше Бога ставишь! Беззакония творишь!..
Царь наконец умолк. Опустив плечи, сел на трон. Затем снова обратился к архиереям:
— Спросите его сами, зачем престол свой оставил и уехал в Новый Иерусалим? Может, покаяться надумает? Тем только и очистится.
Раздались сперва робкие, затем уверенные и зычные крики:
— Пущай грех искупит!
— В огонь его, еретика!
Александрийский Патриарх поднялся из-за стола, воздел руки — гвалт утих. Паисий заговорил, глядя на Никона:
— Почему ты писал Дионисию, что русские от соборной церкви отлучились? Почему обвинил их в неверии?
Никон молчал, и, нарушая тишину, царь устало сказал:
— Если бы то письмо дошло до Византии, то всем православным быть бы под клятвою…
Никон усмехнулся, стал отвечать смиренно, затем его речь вновь набрала силу и перешла в крик.
— Дионисию я писал о газском митрополите Паисии, а не обо всех православных христианах. Ибо Патриарх Иерусалимский его от сана отлучил и проклял… И в Москве делать ему нечего!.. Митрополитом его не почитаю! У него и ставленной грамоты нет. Этак всяк мужик наденет рясу — он и пастырь!
— Сам-то ты кто? — ехидно спросил кто-то сзади.
— Да, я не в боярских хоромах родился. Но Господь избрал меня донесть до вас, убогих, Его слово… — произнес Никон с гордостью за себя и с презрением к присутствующим.
Это Алексея Михайловича снова взбесило:
— Опять ты выше всех себя ставишь, раб презренный!
Питирим, митрополит новгородский, на это бросил реплику:
— Посадить его в яму, узнает, куда не следует лезть!
Никон посмотрел зло на Питирима, но ответил царю:
— Если бы ты, Алешка, Бога боялся, то так бы со мной не говорил.
Царь, ошеломленный услышанным, присмирел. Зашевелились бояре. Семен Сабуров, толкая рядом сидящих, тянулся к Никону, кричал:
— Государь, дозволь на дыбу его! На дыбу!
Богдан Хитрово волком зарычал:
— Мужик, лаптежник!
Отовсюду неслось:
— Еретик! Разбойник!
— Антихрист!
Никон будто не слышал этих слов, словно не ему они предназначались. Только лицо его слегка побледнело, да пальцы рук, сжатые до хруста, побелели.
«Вот как гавкают… Свора псов… Хозяин показал им дичь, они и давай челюстями двигать. Кусайте-рвите! Не только меня, и других Патриархов так терзали!.. Сколько мучений приняли святители! А теперь пейте мою кровь, пока не захлебнетесь».
Гвалт прекратился лишь тогда, когда встал Государь и объявил:
— Иди, Никон, в Ильинку, на свое подворье. Там жди…
Никон поклонился царю три раза, затем два раза Патриархам, с гневом посмотрел на священство, плюнул в сторону бояр и, тяжело ступая, вышел из зала. На улице крупными хлопьями падал снег. Всё подворье Кремля, санки и скрючившегося на облучке Промзу покрыл белым пушистым полушалком. Никон легонько толкнул посохом возницу, тихо сказал:
— Давай, молодец, гони!..
На подворье Вознесенского монастыря ожидала их пол-сотня стрельцов. Начальник их, Матвей Стрешнев, поклонился Никону и стыдливо сказал:
— Прости, владыка, нам приказали тебя охранять. Царский это приказ. На меня ты зла не держи — не я хозяин… Доброту твою никогда не забуду… — И снова низко поклонился.
— Добро не всегда добром платится. — Но видя, как воевода от услышанного пошатнулся, Никон добавил: — Не беспокойся, не о тебе говорю, а о царе.
Думал было теплой улыбкой стрельца одарить — на лицо легла гримаса боли, лоб перерезали глубокие морщины. Рукой отодвинул Стрешнева и пошел к низенькому крыльцу.
Уже ночью, когда Никон тщетно пытался заснуть, в небольшую келью вошел Матвей Иванович и вновь виновато молвил:
— Собирайся, Патриарх…
Никон поднял свой уставший взор, растягивая слова, спросил:
— Куда ж повезешь меня, служилый? В какую темницу?
— Государевы псы тебя «осчастливили»: черным монахом в Ферапонтов монастырь отсылают. Ты из новгородской тьмы меня сюда вызволил. Я, как видишь, в дикую тьму тебя везу. — Стрешнев рукавом вытер с лица слезы.
— Ну, ну, хватит об этом, — начал Никон успокаивать воеводу, — Господь испытания посылает. Надо их принять.
Стрешнев молчал. Что скажешь против владыки? Он многое видел и много знает. Был и Государем, и Патриархом. Только вот царскую руку за божью почему-то принимает. Неужели не видит, откуда зло исходит?..
— Одна у меня просьба к тебе, Матвей, будет, — уже на пороге обратился Никон.
— Говори, Святейший.
— Помоги мне Промзу взять с собой. В глухом монастыре, куда, возможно, и солнце не заходит, беседы на родном наречии душу окрыляют.
— В повозку его спрячу.
— Да благослови тебя Господь!
Стрешнев поцеловал его руку.
… По всей округе гуляла пурга, валя с ног всё, что вопреки ее власти могло ещё двигаться. Но кибитка, окруженная конными стрельцами, упрямо пробивалась вперед через снежные заносы. Шли последние дни декабря 1666 года, раскладывая по-новому карты судеб. Для одних это было начало рассвета, для других — печальный закат.
* * *Живя у Белого моря, Аввакум имел тесную связь с Москвой. «Добрые, задушевные друзья» в ответных письмах ругали протопопа за то, что он не умел вести себя, что, мол, помог царю устанавливать в церквах новые обряды. Да и сам протопоп не раз признавался: «Я нарыв затронул и еретиков рассорил».
Теперь протопоп нашел новое дело — принялся лечить горожан травами и святой водой. «Многих я на нога поставил, многих исцелил…»