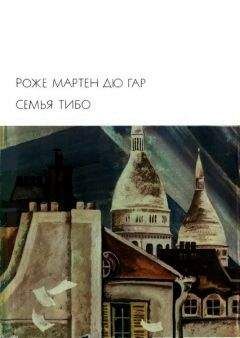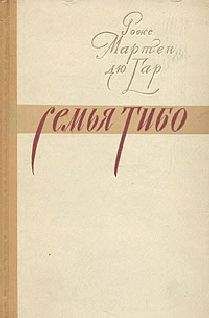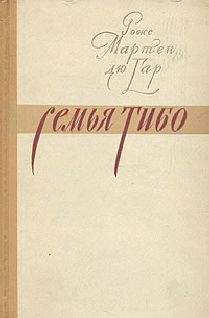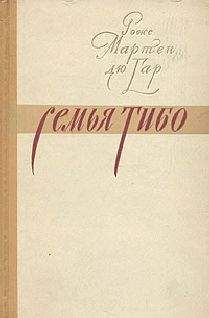Грегор Самаров - Адъютант императрицы
Орлов размахивал кием, Потемкин увертывался от ударов, но князь наступал на него с возрастающим ожесточением; кий свистел в воздухе, и если удары попадали мимо, то это следовало приписать не столько ловкости Потемкина, сколько бешенству князя, которое почти ослепляло его.
Потемкин обнажил шпагу и принял оборонительную позу, тогда как Бередников в ужасе подскочил к Орлову, чтобы схватить его за руку, а придворные дамы и кавалеры, бывшие на дежурстве, в испуге громко звали на помощь.
Потемкин отбил удар — и кий расщепился о лезвие шпаги, однако Орлов все наступал на противника, крича:
— Этого дерзкого раба надо убить, убить до смерти, как бешеную собаку!
— Вы видите, ваше превосходительство, — сказал Потемкин Бередникову, которого Орлов отшвырнул в сторону, — что я только защищаюсь, но, клянусь Богом, мне не остается ничего иного, как покончить с этим безумцем!
Орлов дрался с возрастающим бешенством. Потемкин также начал серьезно защищаться, он пытался ранить в руку своего врага, чтобы сделать его неспособным к драке, но не уследил за движениями Орлова, жестокий удар князя не был отбит им вовремя, и расщепленный конец бильярдного кия попал ему в лицо. С криком боли прикрыл он глаз рукой и, опустив пшату, прислонился к борту бильярда. Подскочивший Бередников, также с обнаженной шпагой, прикрыл собою Потемкина, лицо которого вмиг залилось кровью.
В эту минуту в бильярдную вошла императрица.
— Что здесь происходит? — воскликнула она, сверкая глазами. — Обнаженные шпаги, здесь, перед моим порогом?
— Обнаженные шпаги! — подхватил Орлов, который, несмотря на свое слепое бешенство, прекратил нападение при виде императрицы. — Это не шпага, а только палка, которой я проучил наглеца, как он этого заслуживал. И заметьте все, стоящие здесь, вытаращив глаза, что так будет с каждым, да, с каждым, кто осмелится выступить против Григория Орлова!
Он швырнул на пол обломки бильярдного кия, быстро поклонился императрице и опрометью кинулся вон.
Безмолвно стояли присутствующие, императрица была бледна, ей понадобилось несколько секунд, чтобы снова овладеть собою, но потом она холодно и строго спросила:
— Что значит эта неслыханная сцена? Что значат эти шпаги, обнаженные против князя?
Бередников дрожащим голосом рассказал о том, что произошло, уверяя, что как Потемкин, так и он прибегли к оружию, защищаясь от Орлова.
— О, Боже мой! — воскликнула императрица, только теперь снова обернувшись к Потемкину. — Ты окровавлен, Григорий Александрович, ты ранен? — Она поспешила к нему, заботливо отвела его руку от залитого кровью лица и тотчас отшатнулась в ужасе с криком испуга: кровавый рубец шел ото лба через всю щеку, причем глаз был сильно поврежден. — О, Боже мой, какое несчастье, — продолжала государыня. — Я расследую потом, что здесь произошло и по чьей вине, а теперь скорее, скорее позовите моего лейб–медика!
Пока несколько придворных кавалеров бросились за доктором, императрица оторвала свой кружевной рукав и стала обтирать им кровь с лица Потемкина; забота любящей женщины заставила ее позабыть обо всем, и присутствующие, которые могли заключить из этого усердия, что Потемкин все‑таки одержал победу в борьбе за благоволение императрицы, поспешили обнаружить еще больше старания помочь раненому.
Потемкин собственноручно повязал себе лоб кружевной тканью с одежды императрицы, прикрыв ею раненый глаз, после чего преклонил колено и поцеловал государыне руку.
Мрачно стоял Бередников в стороне.
— Боже мой, — тихо промолвил он про себя, — в каких руках находится судьба русского народа! — Потом генерал подошел к Екатерине Алексеевне и произнес: — Ваше императорское величество, вы еще не дали мне никакого приказа насчет того, как поступить с покойником, кровь которого обагрила пол в темнице Шлиссельбургской крепости.
Екатерина Алексеевна, склонившаяся над Потемкиным, подняла голову, взглянув на Бередникова, ответила:
— Это страшное, роковое дело не должно быть облечено тайной. Велите составить протокол о случившемся — весь свет должен узнать, что и как произошло; тело убитого должно быть выставлено в Шлиссельбургской крепости, чтобы каждый имел к нему доступ и мог воздать последний долг несчастному, который не виновен в том, что некогда был провозглашен императором вопреки законам страны. Обоих убийц следует заковать в цепи и немедленно представить в суд; они пролили священную кровь из рода исконных царей России и не должны остаться безнаказанными.
— Это невозможно, ваше императорское величество! — суровым голосом возразил Бередников. — Поручиков Улузьева и Чекина нельзя предать суду и подвергнуть каре, потому что они сделали то, что предписывал им служебный приказ.
Екатерина Алексеевна с полминуты стояла в молчаливом раздумье, а затем сказала:
— Вы смелы, генерал!.. Но вы храбры, верны и, пожалуй, правы в данном случае. Однако я не хочу, чтобы при моем царствовании Русская земля носила на себе убийц потомка Петра Великого. Пускай Улузьева и Чекина посадят на корабль и отвезут в ту гавань, которую они назначат сами. Они не должны никогда больше возвращаться в Россию, понимаете? Никогда больше. В противном случае на них обрушится вся тяжесть моего гнева и отвращения к их поступку!
— Слушаю, ваше Императорское величество, — ответил Бередников, — но прошу всемилостивейше увалить меня от командования Шлиссельбургской крепостью, и если мне не найдется никакого иного места и останется только послать меня простым рядовым в армию, драться с турками, то там я найду открытый и прямой путь, на котором храброму солдату надлежит исполнять свой долг.
— Я не забуду вашего желания, — ответила Екатерина Алексеевна, — для человека ваших заслуг повсюду найдется почетное место.
Государыня протянула ему руку, на которой были следы крови Потемкина, но Бередников как будто не заметил этого, он отдал по–военному честь, круто повернулся и вышел вон твердым, гулким шагом.
Тем временем явился лейб–медик, он осмотрел Потемкина и тотчас серьезным, решительным тоном сказал:
— Рана сама по себе не опасна и скоро заживет, но глаз сильно поврежден и, пожалуй, почти потерян.
— Ужасно, — воскликнула государыня, — ужасно! Мановению моей руки повинуются народы от Балтийского моря до азиатских степей, и все, что есть великолепного и драгоценного на земле, доступно моему желанию, а между тем я не могу возвратить глаз верному другу! О, как ничтожны, как малы вся земная власть и величие!
— Они велики и чудесны, — тихонько шепнул ей на ухо Потемкин, — когда понадобится отомстить за друга.
Молния вспыхнула в глазах Екатерины Алексеевны, она пожала Потемкину руку. Однако эта рука дрожала, и государыня робко озиралась на дверь, в которую вышел Орлов.
Лейб–медик увел Потемкина в его спальню.
Хотя раненый превозмогал свои страдания с твердой стойкостью, но изнурительное действие их дало‑таки почувствовать себя, и, когда пострадавшего уложили в постель, у него открылась сильная лихорадка, которую врач признал, однако, неопасною. Все усилия медика были направлены к тому, чтобы только уменьшить боли, так как любая попытка спасти зрение в поврежденном глазу была бы напрасна.
Вскоре у одра болезни Потемкина появилась императрица. Пока продолжалась лихорадка, она покидала его лишь на короткое время, когда ей приходилось давать нужные аудиенции, а ночью требовалось освежить усталое тело сном.
Прихожая Потемкина сделалась сборным пунктом для всего двора, потому что раз императрица так явно и открыто выказывала участие к страданиям своего адъютанта, то каждый считал своим долгом обнаружить не меньшее усердие. Высшие придворные сановники и даже министры заходили по нескольку раз в день лично осведомиться о состоянии здоровья больного. Он всегда был приветлив и любезен, и хотя удержался в исключительном благоволении императрицы, все отнеслись к этому благосклонно. Правда, удар бильярдным кием стоил глаза адъютанту государыни, метившему очень высоко, но эта потеря, хотя и не украсившая его внешне, казалось, решила в пользу Потемкина борьбу за господство, предпринятую им с таким гордым и смелым мужеством: сделайся он полновластным правителем земли Русской — весь блестящий двор Екатерины Второй не мог бы с большею почтительностью и усердием осаждать его двери. Сама государыня, которая до той поры, вопреки своей страстной любви к нему, сохраняла еще нередко оскорбительное и подавляющее его гордость достоинство повелительницы, выказывала теперь, у одра его болезни, только любящую преданность и почта смиренную заботливость — утолить ему всякую боль, исполнить каждое желание, прочитанное в его взгляде.
Однако, несмотря ни на что, Потемкин сделался мрачен и печален, хотя лихорадка, причиненная раной, прошла, и он снова приобрел здравую ясность мышления.