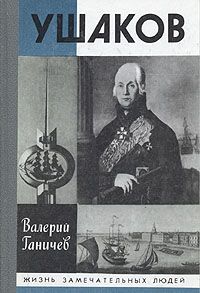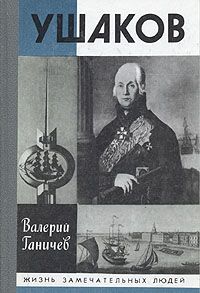Валерий Ганичев - Росс непобедимый...
– Где? А чого вона тут? – сразу заинтересовались закутанные в теплые шерстяные шали бабы.
– Может, сторожуе? – пожал плечами возница.
– Э-э! Ты скажешь, – перебил его высокий, гренадерского роста старик, что подсел к ним на повозку недалеко от развилки. – Ждет она здесь казака с войны. Суженого своего ждет.
Телега проезжала мимо женщины, а она, склонившись над корзиной, перебирала травы, подносила их к лицу, вдыхала аромат и аккуратно перевязывала, часто взглядывая на дорогу. Бабы в телеге развернулись, всматриваясь в чудную, непонятную женщину, сокрушенно качали головами и спрашивали:
– А чого тут чекае?
Старик неторопливо отвечал, чувствовалось, что он говорил уже об этом не раз.
– Может, сговорились они тут или где рядом встретиться, когда он с похода вернется, а она от надзора родительского убежала.
– У, бесстыжая!
– А чего бесстыжая? Родители ее староверы, только свою веру признают. А он ее от хвори смертельной спас. Хотел жениться, да вот те не пожелали. Не их веры.
– А деж воны зараз? Батьки та родные?
– Подались на Дунай на новые земли или еще куда дальше. А может, и поумирали давно.
– Чого ж она тут на шляху стоит?
– Да тут солдаты с войны идут, она их и спрашивает, не видели ли ее суженого.
– И не боится она?
– А вон, гляди, у нее волк прирученный лежит. Кто же посмеет обидеть.
– Ну а коханый-то ее знает, что она тут, в курене?
– Эх, кабы знал казак, на крыльях бы прилетел. Может, и головушку сложил в дальних краях.
И старик замолк, усердно высекая кресалом искры, чтобы закурить свою глиняную трубку. Бабы же еще долго глядели на одинокую фигурку, вздыхали, жалея себя и радуясь, что есть на белом свете такая сердечная любовь.
По дороге продолжали катиться кибитки, широкие кареты, пароконные возки, медленно тащились чумацкие волы, прогарцевали гусары, загребая желтую пыль, шагали солдаты. А у небольшого шалаша, приложив руку ко лбу, стояла, вглядываясь во всех прохожих и проезжающих, затянутая в темную одежду беловолосая женщина.
Как жила она? Чем питалась? Что согревало ее? Никто не знал. Да, может, и она сама не ответила бы, спроси ее об этом. Никуда не уходила от дороги ни в долгие летние дни, ни в короткие душные ночи. Никто не бывал и у нее. Лишь теплый ночной ветер, оббежав соседние рощи и буераки, залетал в ее шалаш, осушал ее одежды, шевелил ресницы, ласково прикасался к лицу, гладил кожу. А потом, прошептав что-то нежное и успокаивающее, выскальзывал с другой стороны, уже считая женщину частью этой степи, этих просторов и трав.
Но однажды прозрачным осенним вечером, когда стаи журавлей криками тревожили все вокруг, она суетливо засобиралась, прикрыла прошлогодним бодыльем вход в шалаш, позвала собаку и зашагала в темноту по грунтовой дороге, ведущей к Щербаневой леваде.
Утром по Вознесенскому шляху снова запылили возки и телеги. Медленным ходом проходили с запада обозы возвращавшихся с недавней итало-швейцарской кампании войск. Несколько телег остановилось у покинутого шалаша.
– Вот тута подмажем свои колеса и передохнем трохи, – спрыгивая с нагруженного воза, сказал седоусый старый казак. Он осмотрелся, откинул бодылье и присвистнул: – Чисто, как в избе. Здеся мы, братцы, и поедим.
Казаки неторопливо зашумели, расслабили сбрую у лошадей, освободили их от удил, привязали мешки с овсом, прихватили свою нехитрую снедь и полезли в шалаш. Молодой казак заприметил идущего по заросшей дороге странника и, неловко забрасывая левую ногу, пошел к нему навстречу.
– Здравствуй, диду! – поклонился идущему.
Тот кивнул головой и остановился, ожидая, что еще скажет молодой.
– Не были ли вы, шановний батько, на Щербаневой леваде, не бачили ли там кого-нибудь? – еще раз поклонился казак.
– Божий я странник, человече! Бывал везде. А если недалече, в лощине, усадьба разоренная Щербаневой зовется, то никто этого не знает. Ибо запустенье там и тишина. Я заночевать там хотел, но страх меня, грешного, обуял, и ушел я в темень, по тропе лесной. Слава богу, что сие совершил, ибо в полночь промчался мимо меня волк серый да тенью скользнула душа чья-то. Нечистое то место, парень. Тоска там и пустырь.
– Было бы чистое, коли б там жили, а разор, он всегда тоску нагоняет, – невесело сказал казак. – Ну значит, ни одной живой души не заметил, старый?
– Нет, нет, одно запустенье.
Казак заковылял к шалашу, а спустившись с гребня дороги, обернулся и крикнул страннику:
– А поснедать с нами не хочешь, усердный человек?
Тот помахал головой и быстро зашагал, как будто пытался подальше уйти от этих мест.
– Ты что, Максим, такой печальный и замученный? – спросил казака седоусый, когда тот втиснулся в шалаш. – Чи твоя нога, может, оживает?
– Так вот, друже, моя нога, яка в Альпах осталась, знала, шо тут моя батькивщина, тут я жил и ушел отсюда в казаки.
– А кто же есть у тебя в сих местах?
– Да никого. Одна хата пустая, и та развалилась, каже странник.
– Ну тогда что ж, давай выпьем чарку в память нам людей дорогих.
Казаки, в большинстве своем пожилые ездовые, что служили раньше и в боевых войсках, выпили, помянули и павших, и всех, кто дал им жизнь и славу. Закусили. Один, самый старый и сморщенный, закурил трубку и, склонив голову, обронил слезу.
– А слыхивали вы, братцы, что наш батюшка, Александр Васильевич, помер?
– Слыхивали. Вона Максим наш одноногий уж песню спивае. Спой-ка нам, друже.
Донские, яицкие, кубанские казаки, что бывали во многих славных походах, а ныне были обозными ездовыми, закивали головами. Максим не отнекивался, сходил за бандурой, сел удобно и тронул струны.
Свиты мисяченьку
И ты, ясна зоренько,
Освиты дороженьку, —
затянул он мягким, ненадрывным голосом. Начало было обычное, но затем казаки вздрогнули, когда Максим стал петь, как лежит «в гробу их батенько».
В головах горят
Золотые лампадоньки.
А з бокив горят
Свички воску ярого.
А в ногах стоит молодой казак.
Казалось им, что уже побывал Максим на том печальном обряде, услышал перед тем последние слова боевого их командира, обращенные к русским солдатам и казакам:
Славни мои братики!
Вы не бойтесь холоду,
Не лякайтесь голоду.
Вы не бойтесь, братики,
Лиходеев капосных.
Вспоминались старым воинам их лихие атаки на Кинбурнской косе, рейды в тыл турок у Рымника, пешие переходы по горам Швейцарии и отцовские суворовские слова, после которых были готовы идти они и в огонь, и в воду, и на небеса.
Одну думу думали, —
Гнать любого ворога,
И с тобою, батьку,
З ворога мы тешились
И завжды то з радостью
Мы на всю Русь-матиньку
Славили Суворова.
Казаки кивали в такт головами, медленно, с продувом выпускали еще крепкий табачный дым из трубок, а Максим дернул с какой-то особой неистовой силой по струнам последний раз и уже вослед звуку закончил:
Вечно будут згадовать
Вороги заклятые
Воина хороброго
Нашего Суворова!
Песня ударилась в стенки шалаша и выпорхнула в горьковатые, дымчатые степные дали, теряясь там среди белых шелковых ковылей и пожухлых осенних трав, затухая в них, растворяясь в воздухе и входя в землю. Казаки долго молчали, а потом кто-то спросил:
– Ну а ты, Максим, здесь останешься или куда-то на сторону подашься?
– А чего здесь оставаться? Раны бередить. Была здесь у меня и дивчина красы невиданной. Да где же она, Анна моя? Забрали ее, увезли куда-то, одни ветры знают про то. – Он склонил голову, задумался и твердо закончил: – Нет, поеду я с вами, хлопцы, на Тамань, найду побратима Пархоменкова и буду жить там.
Все потихоньку задвигались, вылезли из шалаша, прошли к телегам, подтянули упряжь, отвязали мешки от лошадиных морд и стали заскакивать на возы.
Максим оглянулся еще раз, пожалуй, последний, на эти степные просторы, где извечно жили его предки, где ловили они рыбу и пасли скот, где скрывались в лихолетье по балкам и ярам от напастей и зол всяческих, лечили раны и навсегда усыпали в приземистых могилах. Сшибались тут казаки с лютыми врагами своими, гонялись за насильниками и грабителями, уводившими в полон их братьев и сестер, жен и матерей. В последние годы, правда, изгнан отсюда их неприятель, прочно утвердились тут мир и спокойствие. Перестала литься в полях безвинная кровь. Его же душа была вся изранена, надорвана потерями, печалями, болью сердечной, что неотступно следовала за ним в дальних краях, походах на привалах. И когда отвернулся он от своей родной земли, чтобы никогда больше не возвращаться в эти края, перекинул бандуру через плечо, то вдруг пронесся над всем этим осенним полем, над всем этим миром, где были люди, пронзительный, леденящий душу крик:
– Ма-а-ксим! Ма-а-ксим!
Кони остановились, седоки вздрогнули, а Максим, поворачиваясь, словно во сне, увидел, как от развилки дорог метнулась серая тень собаки, и там же на коленях протягивала вослед ему руки беловолосая, в темной одежде женщина.