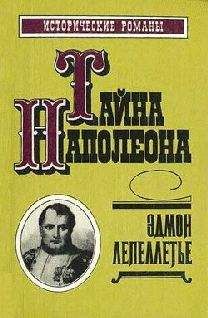Луис Пинедо - Испанская новелла Золотого века
Все это Лисардо говорил, сам себя не помня, и каждое слово было как глоток яду, и каждый довод разил в сердце его самого; но чему дивиться, коль скоро он просит и добивается того, из-за чего должен лишиться жизни? Лаура же глядела на него в таком смятении, что все это казалось ей сном: ведь она верила, что двоюродный брат любит ее, а любить и в то же время просить выйти за другого — одно с другим не очень-то вяжется. Лаура овладела собой и стала раздумывать над тем, что услышала: повертела она и так и эдак слова Лисардо и стала говорить себе: «Что же это такое? Я иду наперекор воле родителей, терплю муки, слыша столько угроз, а Лисардо говорит так вольно и просит меня полюбить другого! Что еще это может означать, кроме того, что он невысоко меня ставит? Тот, у кого хватает духу сказать мне, что я должна принять благосклонно притязания Октавио, не слишком терзается, что теряет меня. Тот, кто советует мне забыть о нем, гнушается моей любовью, это ясно. Но достойно ли женщины разумной и знатной умирать из-за того, у кого хватает духу жить без нее? Можно ли сомневаться, что Лисардо прискучили знаки моей любви? Ведь мужчина, когда уверен в том, что его ценят, забывает про опасения, а потому в любви менее рыцарственен и более небрежен. Мужчины переменчивы, чувство может остыть, все живое склонно к разнообразию и непостоянству; Лисардо — мужчина, он уверен, что любим, и, видно, поступает так же, как и все прочие; он знает, что я боготворю его, схожу из-за него с ума, и вот испытывает мое терпение, выказывая презрение и повергая меня в печаль. А хуже всего то, что я, как видно, занимаю немного места у него в мыслях, ибо человек, который рассуждает так дельно и утешает так разумно, уж, конечно, сумеет утешиться и сам. Что ж, видит небо, на сей раз я отомщу ему за неблагодарность, и советы его отольются ему слезами; я осуществлю то, что мнилось мне невозможным, ибо знатная женщина никогда не забывает о том, кто она такая. Все это значит одно: он меня в грош не ставит, открыто меня презирает. Я не я, коль он мне за это не заплатит. Пусть я достанусь Октавио, пусть достанусь недругу, по крайней мере буду отмщена, хоть и на погибель себе самой!»
О бедная Лаура! Остановись, призадумайся, ведь ты губишь себя и губишь того, кто ради твоего же блага совершил то, чем оскорбил тебя! Кто мог бы поведать тебе, какие муки терпит Лисардо, и предупредить, что вас подслушивает отец твой, он же твой губитель? Лаура, опомнись: Лисардо постоянен, Лисардо боготворит тебя; но кому под силу вразумить разгневанную женщину, которая забрала себе в голову подобные несправедливые подозрения?
К тому же подозрения эти еще больше укреплялись вот каким обстоятельством: Лаура знала, что одна из авильских дам, и совсем не из числа дурнушек, питает к Лисардо нежные чувства: дама эта самолично ей обо всем поведала, полагая, что Лаура, как ее подруга и его родственница, замолвит за нее словечко перед тем, кого она любит. Лаура отлично знала, что Лисардо, хоть и ведает о влюбленности этой дамы, ничуть ей за оную не признателен; но сейчас она пришла к заключению, что коль скоро он сам уговаривает ее пойти за Октавио, стало быть, нашел в той даме что-то, что оказалось ему по вкусу, и по сей причине жаждет обрести свободу, дабы вступить в обладание той, кого Лаура уже мнила соперницей. Ревность подоспела в самый подходящий миг и превратила в истину то, что доселе представлялось лишь видимостью. Лаура уверовала в самое худшее и, пойдя наперекор собственной склонности, отвергнув наперед всякую возможность услышать правду, не помышляя ни о чем, кроме мщения, сказала Лисардо, что ей весьма по душе новое ее положение; достаточно, что такова воля Лисардо, и никаких возражений как не бывало; она любит Октавио, она ценит Октавио; пусть так и скажет ее родителям: она-де рада-радешенька его предложению, а если отвергала, го не потому, что не любит Октавио, а потому, что ей грустно расставаться с отцом и матерью.
И, не дав Лисардо ответить, она простилась с ним и удалилась к себе, чтобы оплакать свой несчастливый жребий; и то хвалила себя за свой поступок, то раскаивалась, что нанесла себе подобное оскорбление, ибо должна была отдать себя во власть нелюбимому: пусть Октавио и не вызывал у нее ненависти, но ведь, чтобы жизнь казалась не лучше смерти, довольно того, что любишь другого и не можешь ему принадлежать.
Отец Лауры вышел из алькова и тысячу раз обнял Лисардо; затем он отбыл из дому, дабы сообщить новости своим родичам и родичам Октавио. Начали готовиться к торжествам и празднествам; Лисардо же пребывал в таком состоянии, в котором, как нетрудно вообразить, должен был оказаться человек, который влюблен всем сердцем и видит, что за какой-нибудь час утратил то, чего добивался столько лет. Сперва ему показалось свидетельством ветрености Лауры то, что она так легко согласилась на брак с Октавио, но он тут же догадался, что ею двигала не сила любви, а гнев, вызванный страстью. Хотел было Лисардо переговорить с Лаурой и объяснить ей, по какой причине молил ее совершить то, что, словно острый меч, сгубит несчастную его жизнь, но было уже поздно.
Лисардо выехал за город, ибо в уединении легче выплакать горе. Отец Лауры вернулся домой сам не свой от радости и в сопровождении жениха, который спешил насладиться божественным присутствием своей нареченной. Лаура приняла его, не поднимая глаз; Октавио решил, что причиной тому честная стыдливость, но глаза Лауры говорили о другом, ибо с трудом сдерживали кристаллы слез, которые, хоть и не скатывались по ланитам, но ресницы увлажняли. Октавио ликовал, что в скором времени осуществит свои упования, Лаура же, во власти все усиливавшегося гнева, избегала Лисардо — не оттого, что не любила, а оттого, что была уязвлена его неблагодарностью. Лисардо тысячу раз порывался переговорить с нею, но отступался и потому, что слишком скорбел, и потому, что знал, какой твердый нрав у его двоюродной сестры.
Ночь для обоих влюбленных прошла так, как проходит она для тех, кто знает, что беда все близится; и во время трехдневных празднеств, которые прошли сразу же вслед за нею — словно для того, чтобы побыстрее доконать Лисардо, — были сделаны оглашения. За это время Лисардо и Лаура не обменялись почти ни единым словом, разве что глаза обоих порой давали себе какую-то волю. Лаура скрывала свои чувства, а Лисардо страдал; оба молчали и оба разрывались от желания рассказать друг другу о своих муках.
День свадьбы приближался, все только и шептались, что о предстоящем веселье, и беспокоились лишь о приготовлениях к празднеству, за исключением одного Лисардо, который призывал смерть, а та не шла, ибо смерть никогда не приходит на зов. И вот однажды вечером, оказавшись наедине с Лаурой, он поддался силе своих горестей и потоку своих тревог и в немногих словах поведал ей о постоянстве своей любви и о том, на какую хитрость пошел его жестокий дядюшка, дабы Лисардо сам накликал на себя погибель; и при этом он так плакал и так искренне вздыхал, что Лаура поверила бы, даже не будь все это истинной правдой. Скорбь Лауры стала еще мучительней, когда она поняла, как несправедливо то, что она теряет Лисардо; влюбленные стали просить прощения друг у друга и вспоминать былые радости, ведь при расставании они всегда вспоминаются. Лаура обняла Лисардо, и ей подумалось, что он для нее — святое прибежище, где нашла бы она защиту от отца, который ее преследует, и от жениха, который ей не по сердцу. Они распрощались почти без слов, ибо множество гостей и великая суета в доме не давали им возможности даже выразить скорбь, которую испытывали оба, теряя друг друга.
Наступил самый несчастливый день в жизни Лисардо, и подумалось ему, что в эту ночь Октавио удостоится объятий Лауры; чудо, что при этой мысли остался он в живых; он выбежал из дому и поспешил к одному своему другу по имени Алехандро, поверенному всех его горестей. Рассказал он другу о своем несчастий и попросил у него коня (коней у Алехандро было несколько), чтобы не медля ни мгновения покинуть Авилу). Лисардо сказал другу, что готов терпеть боль от раны, но не хочет видеть руку, которая ее наносит, а потому решил отправиться в Севилью, дабы выхлопотать себе разрешение выйти в море на каком-нибудь судне, направляющемся в Сьюдад-де-лос-Рейес[100] где, по его сведениям, находится его отец; ведь человек благородный и любящий не должен видеть в объятиях другого ту, которой достоин сам. Алехандро согласился с решением друга, ибо разлука почитается обыкновенно лучшим лекарством от воспоминаний. Перед отъездом, дабы осталось у Лауры хоть что-то на память о том, кто так ее любил, Лисардо послал ей черную ленту со своими инициалами и, дабы поведать о своих чувствах, взялся за перо и написал нижеследующие стихи — а стихи он умел слагать довольно искусно — к вящей убедительности своей скорби; повод требовал, чтобы они были скорее нежными, чем изощренными, и звучали они так: