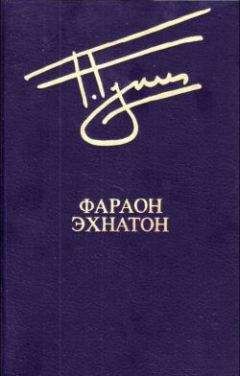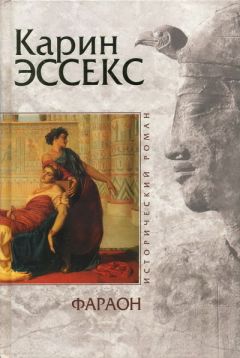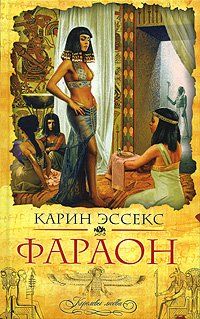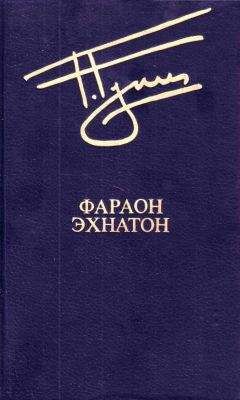Евгений Карнович - Придворное кружево
В это время к парадному подъезду подъехала большая и тяжелая карета, с кузовом в виде плоского купола, над которым блистала огромная княжеская корона. Карета с зеркальными стеклами, обитая внутри темно-красным бархатом, блистала снаружи яркою позолотою, перемешанною с различными узорами и рисунками и с гербом князя Ижорского на дверцах. За каретою выстроились сидевшие на превосходных конях шесть вершников, по два в ряд, а около нее по сторонам каретной дверцы находились два гайдука в ожидании выхода князя, чтобы подсадить его на отложенную в пять ступенек каретную подножку.
Положив в боковой карман своего кафтана написанный секретарем указ и накинув епанчу*, Меншиков сел в карету. Прислуга знала уже заранее, что князь отправляется к государыне, так как вперед него никуда не был послан ездовой, обыкновенно скакавший во всю прыть для предварительного извещения той особы, которую удостаивал «светлейший» своим посещением и которая должна была заблаговременно приготовиться для встречи именитого гостя. Только к одной государыне князь не позволял себе отправлять такого посланца.
VII
Еще при жизни Петра Великого, лет за пять до приезда в Петербург графа Рабутина, сюда явился один из польских панов, по фамилии Грудзинский. Приехал он не в качестве какого-нибудь дипломатического агента и не в качестве искателя приключений, каких в Петербурге тогда являлось немало с предложением государю различных проектов или только своих личных услуг. Пан Грудзинский был человек весьма почтенный и состоятельный и имел весьма важное в тогдашней Польше звание старосты. Приехал он в Петербург только из дружбы к польскому магнату Яну Сапеге*, известному и знатностью своего рода, и своим громадным богатством, – и притом приехал в качестве свата. В Польше, где внимательно следили за положением дел в России, знали и отчасти, быть может, преувеличивали то действительно большое значение, какое имел князь Меншиков при царе Петре Алексеевиче. Да и кроме того, Меншиков был лично знаком полякам, так как он начальствовал над бывшими там русскими войсками и даже одержал при Калише* одну из главных побед над противниками польского короля Августа II шведами. Польские магнаты в князе Меншикове, при усиливавшемся влиянии России на дела их отечества, могли видеть значительную поддержку для партии, к которой принадлежал тот или другой, и из них Ян Сапега захотел воспользоваться такой поддержкой для усиления своей партии; быть может, ему, в случае ее успехов, грезилась даже королевская корона. Да и отчего бы не могло это случиться на самом деле? Если король шведский Карл XII нашел возможным посадить на польский престол Станислава Лещинского*, менее знатного и менее родовитого пана, чем Ян Сапега, то почему не мог сделать то же самое, при известных обстоятельствах, и русский царь Петр в отношении преданного ему такого важного магната, каким был Ян Сапега?
Как бы то ни было, но староста Грудзинский приехал в Петербург в качестве свата с письмом от Яна Сапеги, в котором заключалась просьба о руке старшей дочери Меншикова, княжны Марии, для сына Яна Сапеги – Петра*. Эта брачная чета была еще в ребяческом возрасте: жениху было лет тринадцать, а невесте еще менее. Но слишком ранние браки не были тогда редким явлением ни в Польше, ни в России. Очень часто и там, и здесь выдавали девушек замуж в то время, когда они забавлялись детскими играми. Сверх того, при сватовстве – в особенности между знатными семействами в Польше – дело шло не столько о самом браке, сколько о заблаговременной помолвке. Браком же можно было и повременить в случае крайней молодости жениха или невесты или их обоих, но семейства, просватавшие жениха и невесту, считались уже родственными и усердно поддерживали одно другое.
«Такое родство было бы, пожалуй, мне и кстати. Курляндия состоит под верховною властью Польши, и от польского сейма зависит избрание герцога, а между тем голос Сапеги и голоса его сторонников должны иметь на сейме большую силу», – рассуждал Меншиков, начавший еще при Петре Великом подумывать о том, чтобы сделаться герцогом Курляндским.
Независимо от этого вообще родство с Сапегами для такого выскочки, как Меншиков, должно было казаться честию; но по мере возвышения он не удовлетворялся уже такою брачною связью и рассчитывал посредством браков своих дочерей породниться с германскими владетельными князьями. Такой союз казался ему как-то важнее, чем союз с Сапегою, все-таки невладетельной фамилией. Кто знает, быть может, он уже и тогда рассчитывал на возможность брака своей дочери с великим князем Петром Алексеевичем.
Не желая, однако, упустить окончательно все-таки подходящего во многих отношениях жениха, каким был подрастающий Петр Сапега, Александр Данилович не послал отцу его решительного отказа. С своей стороны и пан староста стал действовать настойчивее и, зная о могуществе Меншикова вследствие вступления на престол Екатерины, отправил в Петербург своего сына.
Не многие из мужчин могли рассчитывать на такие блестящие победы над женщинами, как этот юноша. С внешностью, которая поражала и красотою, и стройностью, он соединял ловкость и смелость, отличаясь в то же время и светскою обходительностью. Разумеется, петербургские дамы и девицы не замедлили плениться таким очаровательным молодым человеком, а в числе их была и княжна Марья Александровна. Полюбился молодой Сапега и Меншикову, до такой степени, что он пригласил его на житье в свой дом. Екатерина Алексеевна оказалась также неравнодушна к красавцу поляку и желала, чтоб он оставался в Петербурге. Устроить это было легко: стоило только женить Петра Сапегу на Меншиковой, а потому она с своей стороны принялась убеждать Меншикова согласиться на предложенный брак. При благосклонности ее к Петру Сапеге не был забыт и Меншиков, сыну которого была предложена самая богатейшая в России невеста – княжна Варвара Алексеевна Черкасская, но сердце блестящего гофмаршала принадлежало уже другой – Наталии Федоровне Лопухиной.
12 марта 1726 года в великолепном доме Меншикова собралась вся тогдашняя петербургская знать. Залы этого дома наполнились гостями. В одной из них был поставлен богатый аналой*, с положенными на нем крестом и Евангелием, а на столе, покрытом алым бархатом, стояло золотое блюдо с обручальным кольцом. Среди находившихся здесь гостей выдавался особенно жених-красавец Петр Сапега – высоким ростом, статностью и молодецкой осанкой. На нем был надет атласный, голубого цвета жупан, а поверх этого коренного польского одеяния был надет заимствованный поляками с востока кунтуш – другой кафтан из белого атласа, рукава которого, по обычаю, соблюдавшемуся у поляков в торжественных случаях, были надеты на руки и заложены концами на плечи. Кунтуш был перетянут великолепным, литым из серебра поясом, а на осыпанной драгоценными камнями рукоятке кривой, в позолоченных ножнах сабли лежала большая, с четырехугольной верхушкой, из голубого бархата шапка с собольим околышем и с пером цапли, прикрепленным богатым бриллиантовым аграфом*, подаренным императрицею. Большой, с остроконечными концами ворот рубашки, разложенный по воротничку кунтуша, был зашпилен бриллиантовой запонкой, составлявшей по величине и по радужной игре камней самую главную драгоценность в сокровищнице Сапег, считавшихся одними из первых богачей тогдашней польской магнатерии*. На ногах у жениха были высокие сапоги красного цвета, так как большие паны и шляхтичи, следуя издавна установившейся моде, носили сапоги такого цвета, какого был щит их герба.
Среди пожилых гостей выдавался также и сановитый отец Петра Сапеги, с длинными, опущенными книзу усами, высоким крутым лбом и с голубыми навыкате глазами. Коренной польский магнат, относившийся небрежно к своим собратам в Польше и презрительно обращавшийся с заурядными своими братьями-шляхтичами, был теперь, по-видимому, наверху самодовольства, вступая в родство с таким проходимцем, каким был сам по себе светлейший князь Меншиков, герцог Ижорский. Но все прошлое давно было уже забыто, и Меншиков, достигший теперь вершины своего могущества, был окружен королевскою пышностью.
Рядом с своей матерью и младшею сестрой стояла невеста. Никто не мог бы назвать эту черноволосую, смуглую, с продолговатым лицом и длинным носом девушку красивой, и только кроткий взгляд ее больших темных глаз и добрая улыбка, в соединении с очень раннею молодостью, придавали некоторую приятность ее лицу. Великолепный наряд невесты как бы служил к этому добавкой: на плечах ее, как княжны или принцессы Священной Римской империи, была накинута пунцовая бархатная мантия, подбитая горностаем и застегнутая у шеи огромным бриллиантовым аграфом; на голове была небольшая, блестевшая разноцветными лучами корона, а корсаж, крепко стянутый на ее не сложившемся еще окончательно стане, отливал игрою драгоценных камней и жемчуга ослепительной белизны.