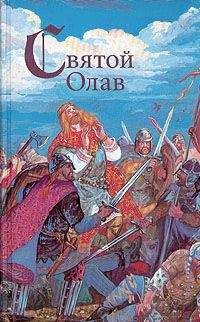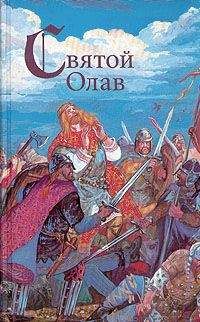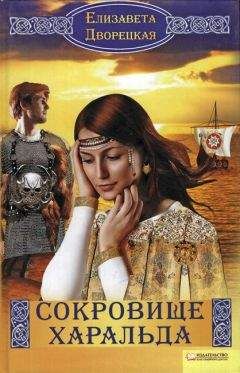Михайло Старицкий - РУИНА
— Петре, любый! — схватился Богун и обнял его горячо. — Да разве у меня и на мысль приходила когда-либо зрада? Я только подумал было, что ты затягиваешь исполнение.
— Нет, дослушай, Иване, — усадил ласково Богуна гетман и наполнил ему кубок вишневкой, — раз я задался такой думкой, так должен же был держать крепко булаву в руке и не отдавать ее первому желающему. А разом со мною за эту булаву схватились и Опара, и Суховей, и Ханенко… Значит, и мне, прежде чем промышлять о соединении Левобережной и Правобережной Украйны, нужно было помыслить, чтоб Правобережная не распалась еще на четыре части, и я должен был бросить правый берег… оставить все добытое… — сказал он как-то смущенно, опустив вниз голову, а потом, после небольшой паузы, начал с напускным одушевлением: — Я попробовал прежде действовать увещанием, предлагать даже свою булаву, лишь бы все уступили кому-нибудь одному, но никто не шел на уступки, а напротив, всяк начал действовать силой, и я должен был противопоставить силе силу… с Опарой я справился скоро, Суховей убежал, но Ханенко накликал татар и пошел с ними жечь и грабить родную страну… А тут еще и поляки двинули на меня свои хоругви… Куда мне было броситься? К Москве? Но она нас не хотела и отдала, по Андрусовскому договору, во власть наших исконных врагов… Я и обратился к Турции, единственной, хотя и чужеверной, но могучей державе: она ведь отмежевана от нас морем и не сможет нас проглотить, а помочь нам своей силой может, — закончил Дорошенко.
VI
— Так-то оно так, — произнес Богун вдумчиво, — но бусурманского ига не может народ потерпеть…
— Не ига, а лишь союза, — возразил раздраженно гетман, побагровев от досады; видимо, это был для него особенно щекотливый вопрос. — Я в этом глубоко убежден и теперь… И Турция уже мне оказала услугу, смирила поляков — раз, а потом, когда меня осадил татарскими ордами у Коротни Ханенко, то я пять месяцев там пропадал и пропал бы, но одно слово турецкого посла заставило татарву отступить, и я мог тогда свободно двинуться к Умани и утвердить в том краю свою власть…
— Но Ханенко же снова тебя накрыл с татарами под Стеблевым? Значит, слова падишаха для них ре важны, — заметил лукаво Богун.
— Что ж тут удивительного? — ответил тогда уверенно гетман. — Мурзы и султаны непослушны, самоуверенны, — там тоже безладье.
— А еще и то, — добавил Мазепа, — разве для татарина интересен порядок в устройстве соседа? Ведь порядок дает силу, а сила сокрушает разбойничьи набеги.
— Ну, вот и легко их, разбойников, было подкупить грабежом и накинуть на меня дикие орды… Тут уже спас меня нежданно–негаданно Сирко, и мы разбили наголову татар, а Ханенко едва унес ноги… Вот тогда только, когда про Ханенка и слух простыл, а я остался один с булавой по Правобережной Украйне, тогда только я снова приступил к выполнению своей задачи, к воссоединению разорванных частей родины, и двинул на левый берег свои полки…
— И имел громаднейший успех, — прервал его запальчиво Богун, смешавший последний поход на правый берег с первым, — все тебе стало сдаваться без боя, везде твое имя благословлялось, и народ, озаренный новой надеждой, поднял голову, свергнул и растерзал даже ненавистного ему Бруховецкого, провозглашал уже тебя единым гетманом обеих Украйн, но ты в самую важную минуту…
Мазепа давно уже останавливал взглядом забывшегося Богуна, Кочубей кашлял, но Богун не понимал их, и только теперь, взглянув на гетмана, он спохватился, что сказал лишнее; побледневшее на мгновенье лицо Дорошенко вдруг покрылось багровой краской и потемнело… Наступившие даже сумерки не могли скрыть такой разительной перемены. Гетман ухватился было за грудь рукой, а потом прижал ладони к вискам и застонал слабо.
— Что с тобой, Петре, мой друже? — затревожился Богун, прикладывая и свою руку к воспламененному челу гетмана.
— Воды! — произнес тот глухо.
Мазепа подал торопливо кружку воды и подчеркнул Богуну:
— Ясновельможного всегда приводит в содрогание виденная им картина зверской расправы с Бруховецким.
— Д–да, — словно давился глотаньем воды гетман, дыша тяжело и отирая выступивший на лбу холодный пот, — этак может и паралич задавить, лучше и на думку не пускать… Я ведь не про тот проклятый час говорю, а вот про теперешний, недавний, — говорил он с паузами и передышками, медленно овладевая собой. — Вот про Гамалия и Гоголя, что посылал я на левый берег с полками и Белогородской ордой…
— А–га–га! — догадался Богун. — Ну, и ладно… был ведь там недавно… так вот и не знаю, что побудило тебя отозвать оттуда свои силы, ведь там они победоносно шли и чуть ли не половину гетманства привернули было под твой бунчук…
Гетман не сразу ответил: или ему было тяжело еще говорить, или он обдумывал причины. Мазепа, заметив замешательство гетмана, поспешил на выручку.
— Во–первых, славный полковниче, — заговорил Мазепа, — наших сил там было всего–навсего лишь четыре тысячи, а Многогрешный, не дождавшись помощи от Москвы, собрал своих двадцать тысяч и ударил на наш ничтожный отряд; Гамалий заперся в Городище, и его гетман добыть никак не мог, но все-таки против такой надзвычайной, подавляющей силы нашим нельзя было долго держаться, а потому Гоголь и прилетел сюда за помощью… А тут мы получили известие, что Ханенко снова вынырнул из Крыма и появился с ордами в Умани… Что же было делать? Или послать за Днепр все силы и оставить свою страну без защиты, или вызвать подмогу из-за Днепра сюда и отправить к Умани? Долг правителя и благоразумие заставили гетмана решиться на последнее.
Гетман с благодарностью поднял глаза на Мазепу.
— Тем более, что мысль о соединении Украйны не только не оставлена мною при этом, — добавил он, — а даже подвинута вперед, только другим, мирным путем. Я обратился… с запросом, что желаю вести переговоры с Демьяном, и он откликнулся радостно на мой призыв… Мы готовы, выходит, поступиться оба своими булавами для крепости и блага нашей отчизны.
— Друже мой! Брате мой! Прости меня, что я усомнился! — бросился обнимать Дорошенко Богун, — не в тебе, не в тебе усомнился было, а в твоих мерах, теперь я опять помолодел и даже напиться готов за твой долгий век, за Украйну, за ее будущее.
— А вот и новая запеканка на этот случай, — сказал весело вошедший в этот момент Кочубей с сулеей, наполненной темной ароматной жидкостью. — Жинка приготовила! — похвастался он.
— Давай и наливай! — скомандовал Мазепа.
— Спасибо, спасибо за доброе слово! — говорил между тем растроганный гетман, целуя своего побратима. — За это и следует выпить! — поднял он кубок. — Мне-то и нужны друзья: один я теперь! — закончил он как-то угрюмо и, чокнувшись со всеми, выпил залпом свой кубок при дружных криках «виват!».
— Наступают, действительно, тяжелые времена, — продолжал он, усевшись грузно. — Нужно напрячь все Силы и быть трехголовыми церберами… столько усилий и жертв, и все мы на одном месте, только самое место стало пустынней и глуше. Да, — встряхнул он головой, словно отгоняя прочь от себя докучные мысли. — Сегодня я жду владыку, с ним все обсудим… Нужно решаться, час приспел, и напасти встают тучами.
В это время дверь отворилась, и в комнату вошла сияющая радостью и здоровьем Саня; она занимала теперь в гетманском замке роль хозяйки.
— Ясный гетмане, простите, что я перебила беседу… Джура боялся войти, так я взялась…
— А что там еще? — привстал Дорошенко тревожно.
Все тоже повернулись в сторону Сани с видимым беспокойством.
— Ничего особенного такого, — улыбнулась простодушно Саня, — а только то, что приехала в Чигирин дочь левобережного полковника Гострого, панна Марианна, и просит позволения посетить ясновельможного!
— Марианна? Дочь моего друга? — вскрикнул радостно гетман. — С вестями, верно… Где же она? Проси!
Мазепа до того был огорошен этим известием, что не знал, как скрыть свое непослушное волнение; он остановился в какой-то смешной позе и замер; хорошо, что взоры всех были в это мгновение обращены на входную дверь, и никто не заметил неловкого положения пана генерального писаря…
Через минуту дверь из внутренних покоев была распахнута двумя джурами, и на пороге ее появилась Марианна. Она была в том же дорожном костюме, в темно–зеленом байбараке, облегавшем изящно ее стройный стан, кольчуга была уже снята; лицо панны, классически правильного рисунка, с резко очерченными черными бровями, не носило и следа усталости, а напротив того, от быстрой езды на ее матовом, бледном лице проступал едва заметный румянец. Вся фигура панны полковниковой, дышавшая избытком энергии и здоровья, произвела на всех ободряющее впечатление. Мазепа, сам того не замечая, застыл в восторженной улыбке. Марианна обвела все собрание быстрым взором, задержала его на Мазепе, вспыхнула едва заметно и быстро остановила глаза на ясновельможном гетмане. Дорошенко сделал к ней шага два, раскрыв широко руки.