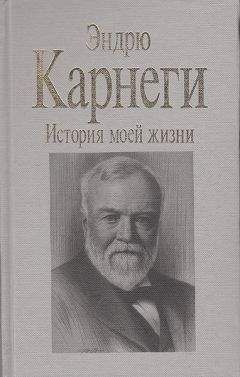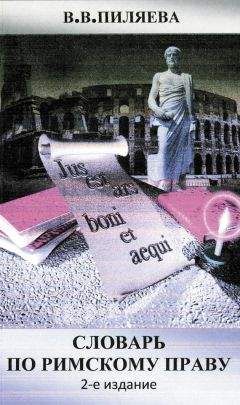Олег Ждан - Государыня и епископ
Выбрались в Рясну на рассвете, ехали не торопясь и к обедне были на месте. Священник, конечно, никак не ждал такого гостя, стоял у ворот и молча глядел, как выходит из кареты епископ, как приближается, казалось, запамятовал даже имя его, лишь тихо повторял: «Владыко… владыко…» Был он невысокий, тщедушный, под глазом темнел синяк, точнее, желтяк, вид имел виноватый и крайне растерянный. Видимо, был из тех людей, которые знают свои грехи, не забывают о них и всегда ждут наказания. Уже с трех шагов пахнуло на епископа дешевым хлебным вином. Заношенной была и ряса на нем, а наперсного креста вовсе не было.
— Ну что ж, отец Агафон, пойдем в храм.
Священник тотчас сорвался с места и кинулся к дому, точнее, к своей покосившейся хате, через минуту появился с ключами в руке и, не задержавшись около епископа, промчался к церкви. Преосвященный вошел следом.
Бедность увидел впечатляющую. Единственная иконка Иисуса украшала храм, два пятисвечника у левого и правого клироса. Покосилась одна половинка царских врат. Правда, было чисто — наверняка заботами прихожанок. Больше разглядывать было нечего.
Отец Агафон стоял в углу у левого клироса, где его почти не было видно, словно желая раствориться во тьме.
— Где ты, отец Агафон? — позвал преосвященный. — Выйди на Божий свет.
Он тотчас вышел и остановился в пяти шагах, склонив голову.
— Где крест твой наперсный?
Молчал, как семинарист, не подготовивший урок.
— Пьешь, отец Агафон?
— Пью, — согласился тот и вдруг заплакал.
— Не можешь без вина?
— Не могу, ваше преосвященство. Дьяволы меня искусили, видно, на всю жизнь.
— Плохо Бога просишь о помощи.
— Прошу, ваше преосвященство. Каждый день-вечер прошу! Не слышит он меня, грешника.
Опять замолчал.
— А дерешься в храме зачем?
— Так не слушают меня! Шумят, богохульствуют. Третьего дня Степан Силин, кузнец, кота принес в мешке! Как мне это терпеть?
Агафон умолк. Судя по желтяку под глазом, в драке с кузнецом ему досталось крепко.
Храм этот, по названию Крестовоздвиженский, был единственный православный храм в городке. Но был еще один, отнятый в прошлом на унию. Преосвященный пригласил Агафона пройти по улицам, показать этот храм. Как и ожидал, вид у него был исправный, наверно, прихожане-униаты оказались щедрее или богаче, нежели православные. Или перепадала храму толика от доходов и богатств Папы Римского.
— Как жертвуют православные? — спросил преосвященный, хотя ответ знал.
— Плохо, ваше преосвященство. Едва хватает на хлебушек. И на свечи не хватает. Воск на свечи подарил Антон Худога, бортник наш.
— А на вино хлебное хватает?
Агафон виновато молчал.
— Сколько тебе за наперсный крест дали?
Опять заплакал Агафон.
Побывал преосвященный и в его доме — ужаснулся запущенности и нищете. Два жалких закопченных горшка на загнете печи, миска с деревянной ложкой на столе, деревянная бадейка с водой и большой деревянной кружкой на табурете. Песок на полу, давно не беленая печь, немытые окна. Воистину мерзость запустения, реченная пророком Даниилом. Единственное утешение — высоко в красном углу за вышитым рушником — скорее всего, подарок прихожанки — пряталась иконка Богоматери.
— Один живешь?
Тоже можно было не спрашивать. Скорее всего, не успел до рукоположения подыскать достойную звания матушки супругу, а теперь уже не имел права.
— Вызовем тебя на спрос в консисторию, — сказал, прощаясь, преосвященный. — Будешь пить вино — извергнем из сана.
Агафон мелко затряс головой, дескать, понимаю, принимаю, согласен.
Надо бы немедля расстричь пьяницу, но найти походящего священника на его место тоже непросто. Храм без священника — хороший повод для униатов привести своего.
Был и еще грех у Агафона: лазал по деревьям с бортями, воровал мед и у шляхты, и у крестьян. Но особо строго Конисский его не увещевал: и без того был уже наказан — свалился с дерева, искусанный пчелами, отлеживался весь месяц.
— Воруешь медок, Агафон, у крестьян?
— Нет, владыко! — вдруг запротестовал тот. — Только у шляхтунов!
— А у шляхтунов можно?
Молчал, свесив голову набок.
Когда вышел из дома, увидел, что за воротами собрались прихожане, в большинстве женщины: слухи разлетаются в таких городках быстро. «Благословите, ваше преосвященство!» Он охотно и щедро благословил. А еще спросил: «Знаете, кому отец Агафон продал крест?» — «Знаем, святой отец, знаем! — ответил хором. — Камейша это, бондарь. Ходит с его крестом в церковь, похваляется! Уж мы его срамили, денег собрали, чтоб выкупить крест, только смеется…» — «Передайте, чтобы вернул крест. Иначе останетесь без священника. Нельзя служить без креста». Еще раз благословил женщин.
Женщины плакали от умиления, глядя на епископа, а отец Агафон бежал следом за каретой, и лицо у него было счастливое, словно преосвященный его облагодетельствовал. Похоже, не поверил угрозе извержения из сана: добрыми были лицо и голос преосвященного. Конисский и сам знал за собой такую слабость, но кроме прирожденной доброты была ей еще причина.
На третьем году обучения в Киево-Могилянской академии он подружился с Васей Гудовичем, мальчиком-соземцем, с которым знаком был еще по Нежину. Вася был на год или два моложе, робок душой и тщедушен телом, он прилепился к Георгию, как к старшему брату, да и Георгий относился к нему, как к родному человечку: хвалил, журил, помогал в учебе, в которой Вася был не силен, а по-видимому, и не хотел учиться. Был момент, когда руководство академии вознамерилось и вовсе отправить его обратно в Нежин, к родителям, было устроено собрание для решения судьбы, — тогда-то во спасение друга и предложил Георгий в качестве последней меры подвергнуть его телесному наказанию — дать тридцать розог, что и было сделано в тот же день. Экзекуция производилась в нарочно отведенной для этого маленькой комнатке, в которой имелся лишь голый деревянный топчан, обтянутый телячьей кожей, для наказуемого да бадейка с водой для розог на маленьком столике. Георгий стоял у входа, уже страдая, совестясь от своего предложения, прислушивался, но ни звука не долетало из-за плотно закрытой двери. Он надеялся встретиться с Васей и со слезами простить друг друга, ибо «если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Но открылась дверь, Гудович вышел, увидел Георгия и отвернул заплаканное лицо. Конисский долго потом, представляя его тощие исполосованные до крови розгами ягодицы, проклинал себя за торопливые необдуманные слова. Было в тех словах нечто постыдное, к судьбе Васи отношения не имевшее, себялюбное — хотел выделиться перед лицом ректора духовной академии и возвыситься над иными учащимися. Снова и снова пытался подружиться с Василием, призывал словами Евангелия от Матфея: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего», — я, твой согрешивший брат, обличи меня!
Но Василий Гудович оказался гордым, не захотел простить, а скоро и вовсе покинул академию.
В Мстиславском Тупичевском монастыре месяц назад случилась беда: убили настоятеля. Как стало известно, настоятель давал деньги в рост — и своим монахам, и приходящим мирским. Шила в мешке, говорят, не утаишь, молва о его богатстве разошлась по городу, нашелся и лихой человек. Но следов преступления не было. Преосвященный собрал всю братию. «Не только убиенного, но ваш это общий грех. Забыли, что говорит Псалтирь? «Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного!» Стыдно перед униатами и католиками. Стыдно перед Богом. Долго теперь придется вам замаливать этот грех, чтобы заслужить прощение — и людей, и Бога». Говорил он страстно и долго, и братия в полной тишине, но, показалось, равнодушно, слушала его.
Теперь монастырь оказался вдовствующим, то есть без настоятеля. Относился он к Киевской епархии, и Конисский был не вправе назначать или предлагать настоятеля, мог он лишь наблюдать за поведением монахов и при надобности сообщать об этом Киевскому митрополиту.
Остановился преосвященный у отца Феодосия, и вечером к нему пришел монах Сергий. Пример настоятеля оказался заразительным, сообщил он: еще один монах — отец Антон, грешит тем же, что покойный настоятель. Правда, ведет себя осторожнее, в келье никого из мирских не принимает, встречается с ними в городе или где-либо в ближнем лесу, якобы выходя по грибы-по ягоды. Но доказать все это нельзя, ни улик, ни свидетелей нет. Может, и не один Антон грешен сребролюбием.
С печалью в сердце слушал Сергия преосвященный. Что делать? Можно было бы посоветовать Киевскому митрополиту перевести Антона в другой монастырь, но — не уличен. Многие монахи тяжело переживают такие перемены, особенно если родились в ближних краях.