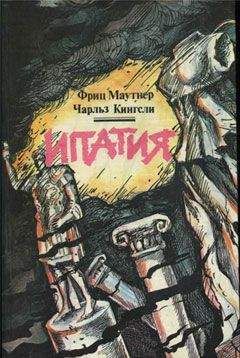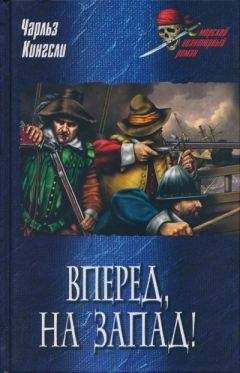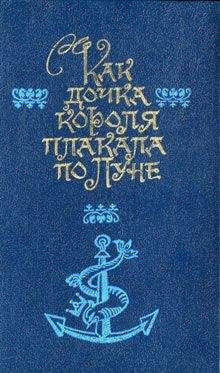Чарльз Кингсли - Ипатия
– А это, в свою очередь, зависит от его планов.
– В самом деле, нельзя требовать, чтобы ты… мы будем выражаться иносказательно… Если вся затея не стоит связанных с нею трудов…
Орест сидел в глубоком раздумье.
– Нет, – произнес он почти бессознательно, но тут же гневно взглянул на еврея: он боялся выдать себя. – А почем мне знать, не расставляешь ли ты мне одну из своих адских ловушек? Скажи мне, как узнал ты обо всем этом, или клянусь Геркулесом[37],– в это мгновение он совершенно забыл о своем христианском вероисповедании, – клянусь Геркулесом и двенадцатью олимпийцами…
– Не употребляй выражений, недостойных философа, я почерпнул эти сведения из верного и простого источника. Гераклиан вел переговоры о займе с раввинами Карфагена, но из-за боязни и верноподданнических чувств, они в конце концов отказали ему. Он знал, как и все мудрые наместники, что евреям бесполезно угрожать и поэтому обратился ко мне. Я никогда не давал денег взаймы, – это противно духу философии, но я его свел со старой Мириам, которая не побоится вести дела с самим чертом. Не знаю, получит ли он деньги, знаю только, что мы владеем его тайной. Если же потребуются все подробности, то тебе их сообщит старуха, которая любит интриги не меньше фалернского вина.
– Так, так… Ты истинный друг…
– Да, без сомнения. А вот и Ганимед[38] с вином, – он является как раз вовремя. Да здравствует богиня мудрых советов, мой благородный повелитель! Что за вино!
– Настоящее сирийское – огонь и мед! Ему исполнится четырнадцать лет в следующий сбор винограда. Уходи, Ганимед! Смотри, не подслушивай! Итак, о чем же мечтает наместник?
– Он жаждет получить вознаграждение за убийство Стилихона[39].
– Как? Разве ему не достаточно быть властителем Африки?
– Я думаю, он считает, что это звание вполне оплачено его заслугами за последние три года.
– Да, он спас Африку.
– А следовательно и Египет. Ты, вместе с императором, в долгу у него.
– Дорогой друг, мои долги слишком многочисленны, чтобы я мог надеяться погасить когда-либо хоть один из них. Какую же награду он требует?
– Порфиру.
Орест встрепенулся и погрузился в глубокое раздумье. Рафаэль наблюдал за ним несколько мгновений.
– Могу я теперь удалиться, мой благородный патриций? Я сказал все, что знал. Если я теперь не отправлюсь домой, чтобы закусить и подкрепиться, то вряд ли успею разыскать для тебя старую Мириам и обговорить с ней наше небольшое дельце до заката солнца.
– Постой! Как велика численность его войска?
– Уверяют, что около сорока тысяч. Бессовестные донатисты[40] пойдут за ним все, как один человек, если только его финансы позволят ему заменить их деревянные дубинки стальным оружием.
– Прекрасно, ступай… Так! Сто тысяч было бы достаточно, – произнес он задумчиво, когда Рафаэль с низким поклоном покинул комнату. – Он не наберет столько, но все-таки, право, не знаю… У этого человека голова Юлия Цезаря. Арсений, этот безумец, поговаривал о присоединении Египта к Западной империи. Мысль не дурна. Гераклиан – римский император, я – неограниченный владыка по эту сторону моря… Затем нужно хорошенько стравить донатистов и церковников, чтобы они с полным благодушием перерезали друг другу горло… Не иметь более на шее Кирилла с его шпионством и сплетнями… Это было бы недурно… Но сколько хлопот и треволнений!
С этими словами Орест вышел из комнаты, чтобы принять теплую ванну.
Глава III[41]
ГОТЫ
Молодой монах уже два дня плыл по Нилу. Справа и слева виднелись красивые города и виллы, возбуждавшие томительное любопытство. Он долго смотрел назад, пока они не скрывались за выступом берега, и ему безумно захотелось узнать, каковы вблизи эти роскошные здания и прекрасные сады, какой жизнью живут те люди, которые теснятся на набережных и непрерывной вереницей идут и едут по широкой дороге вдоль Нила.
На крутом повороте реки он увидел пестро раскрашенную барку. На ее палубе сновали вооруженные люди в неуклюжем иноземном одеянии и с дикими возгласами следили за каким-то большим и бесформенным зверем, барахтавшимся в воде. На носу стоял человек исполинского роста. В правой руке он держал наготове гарпун, а в левой – веревку от другого гарпуна, вонзившегося в громадный окровавленный бок гиппопотама. Животное билось несколько поодаль от барки, разбрасывая пену и брызги. Один из воинов, стоявших у руля, держал по веслу в каждой руке и неуклонно направлял барку на чудовище, несмотря на неожиданные и порывистые движения последнего. Любопытство овладело Филимоном. Он подплыл почти к самой барке, не замечая, что за ним следят томные черные глаза нескольких существ, сидевших под разукрашенным навесом около кормы судна.
Это были женщины… Коварные обольстительницы весело болтали, встряхивали блестящими локонами в золотых сетках и улыбались. Увидев их, Филимон от смущения вспыхнул, схватился за весла, чтобы уйти от соблазна, но гиппопотам заметил его и ринулся, освирепев от боли, на беззащитный челнок. Веревка гарпуна обвилась вокруг стана юноши, лодка мгновенно опрокинулась вместе с ним, и чудовище, широко разинув огромную клыкастую пасть, стало настигать пловца, боровшегося с течением.
К счастью, Филимон, в отличие от большинства монахов, часто купался и умел хорошо плавать. Чувство страха ему было чуждо; как и прочие отшельники, он с детства привык размышлять о смерти, и она не внушала ему ужаса даже в эту минуту, когда ему улыбалась жизнь. Но этот монах был молодым мужчиной, не желавшим умереть без борьбы, не отомстив за себя. Он быстро освободился от веревки и выхватил короткий нож, свое единственное оружие. Ловко нырнув, юноша избежал пасти страшного зверя и напал на него с тыла. Варвары кричали от восторга. Гиппопотам бешено метнулся на нового врага и одним движением челюстей раздробил пустой челнок. Но это нападение оказалось роковым для животного: барка очутилась возле него, и, когда гиппопотам высунул из воды свою незащищенную широкую грудь, гарпун, брошенный мускулистой рукой великана, поразил его прямо в сердце. Зверь судорожно вытянулся, и его огромное синевато-черное тело всколыхнулось и всплыло над водой.
Бедный Филимон! Он оставался безмолвным среди общих восторженных возгласов и одиноко плавал вокруг своего разбитого маленького челнока. Тоскливо поглядывал он на далекие берега и думал, что, пожалуй, лучше добраться до них во что бы то ни стало, лишь бы спастись от… Но тут он вспомнил о крокодилах и повернул назад. Однако страх перед соблазнительными женщинами привел его к окончательному решению: крокодилов, быть может, и не встретит, а кто спасется от женщин? Он храбро поплыл к берегу, но вдруг вокруг его тела обвилась веревка, и дружеская рука варвара при общем одобрительном смехе вытащила его на палубу. Никто не сомневался, что юноша обрадуется оказанной ему помощи, и добродушные готы совершенно не понимали причины его недовольствия.
Филимон с удивлением смотрел на этих странных людей, а их бледные лица, круглые головы, широкие скулы, коренастые сильные фигуры, рыжие бороды и желтые волосы, причудливыми узлами связанные на макушке. Их неуклюжие одеяния, представлявшие смесь римской и египетской моды, состояли наполовину из неизвестных ему мехов. Безвкусно украшенные самоцветными камнями, римскими монетами и драгоценностями в виде ожерелий, эти одежды, однако, носили на себе следы многих невзгод и схваток. Только рулевой, подошедший к борту, чтобы посмотреть на гиппопотама и помочь поднять на палубу грузное животное, носил допотопный наряд своего народа: белые полотняные штаны, стянутые ремнем, кожаный нагрудник и медвежью шкуру вместо плаща. Язык варваров был совершенно непонятен Филимону.
– Какой это рослый, отважный юноша, Вульф, сын Овиды! – обратился богатырь к старому воину в медвежьей шкуре. – Он, пожалуй, не хуже тебя сумеет носить шубу в этом пекле.
– Я сохранил одежду моих предков, Амальрих-амалиец; Асгард[42] я сумею найти в той же одежде, в какой некогда брал Рим.
Костюм богатыря представлял собой смесь римского военного и гражданского одеяния. На нем был шлем, панцирь и сенаторская обувь; с дюжину золотых цепочек обвивалось вокруг шеи, и на всех пальцах сверкали драгоценности. Он отвернулся от старика с нетерпеливой насмешливой улыбкой.
– Асгард! Асгард! Если ты спешишь достигнуть Асгарда по этой вырытой в песке канаве, то расспроси юношу, далеко ли нам еще плыть.
Вульф тут же исполнил его желание и обратился к монаху с вопросом, на который тот мог ответить лишь отрицательным движением головы.
– Спроси его по-гречески.
– Греческий язык – наречие рабов. Пусть им пользуются невольники, – я от него отрекаюсь.
– Эй, девушки, подойдите-ка сюда! Пелагия, ты, во всяком случае, понимаешь язык этого молодца. Спроси его, Далеко ли еще до Асгарда?