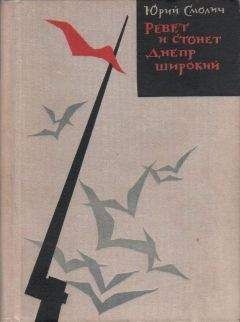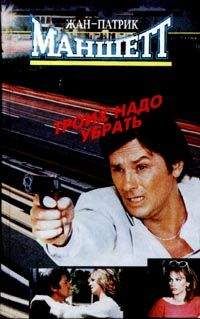Юрий Смолич - Мир хижинам, война дворцам
— Европа! Азия! Америка! Африка! Австралия! — кричал в эту минуту, размахивая кулаками, Василий Назарович Боженко, столяр–модельщик. — Сегодня уже весь мир втянут в войну, раз и Соединенные Штаты встряли в эту заваруху! Кровь проливают крестьяне и рабочие, а капиталисты таскают один другого за чубы — кто больше в карман положит на нашей крови и слезах! Нам такая война ни к чему! А ты говоришь!..
«Говорил», конечно, Иван Брыль, самый заядлый полемист, готовый спорить с кем угодно, даже с самим собой.
— Еще бы! Ведь ты уже три дня как записался в большевики! «Мир — хижинам, война — дворцам» — об этом, брат, я знал, еще когда ты пешком под стол ходил. Но ведь сам Карл Маркс учит, что все решают обстоятельства! А обстоятельства, брат, сейчас совсем другие. Вот слухай меня сюды, я сейчас объясню тебе все как есть…
Старый Брыль отклонился назад, чтобы лучше видеть своего оппонента, и разгладил усы книзу — такова была его привычка. Василий же Боженко перестал махать кулаками, но принялся жестоко ерошить бороду — такова была его привычка.
— Когда Россия была еще царской, — поучительно начал Иван, — то каждому дураку было ясно: пускай себе император проигрывает свою войну…
— Ну, ну? — подзадорил Боженко, дергая себя за бороду.
— Вот тебе и «ну»! А теперь появилось, сказать бы, совсем новое обстоятельство: революция! Так и пойми ты, большевистская твоя голова, что если победу завоюет кайзеровская Германия, королевская Австрия и султанская Турция, то победят они революционную Россию. Одним словом — погибнет тогда революция в России! То какой же, спрашиваю я тебя, вывод должен сделать для себя рабочий класс?
— Ну, ну? Какой, какой?
— Ясно — какой: поосторожнее надо быть с лозунгом «война войне», раз теперь такое обстоятельство…
Боженко вскочил с места и снова замахал кулаками:
— Так революция ведь у нас буржуйская…
— Буржуазная, — менторски поправил Иван.
— Буржуазная! Так где же тогда совесть твоя? Ты что же, за Временное правительство министров–капиталистов?
— Я, чтоб ты знал, против капиталистов еще с тех годов, когда ты про революцию и не думал! Временное правительство надо революционизировать и от буржуазной революции двигаться к нашей, пролетарской. Сам товарищ Ленин говорит, что необходимо мирным путем…
— Так Ленин же это не о войне говорит, а о том, как власть брать Советам в свои руки! — отозвался солдат Королевич, а Боженко подскочил вплотную к Ивану, будто собирался схватиться c ним врукопашную.
— Ты что ж, сукин сын, меньшевизм разводишь, «революционное оборончество»? Тьфу!
Разъяренный Иван тоже вскочил с завалинки:
— Так, по–твоему, выходит, что я меньшевик? Это ты хочешь сказать мне, — матери твоей сто чертей?! А кто же тогда революцию начинал? Разве не мы, киевские пролетарии?
— Правильно, Ваня! Верно, Иван Антонович! — закричали «политики», и громче всех кум Максим.
Все они были потомственными киевлянами и от пролетарской гордости за родной город отказываться не собирались. Где «Союз борьбы» — еще с тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года — начал распространять идеи единства рабочего класса? В Киеве, на заводах. Да сам Владимир Ульянов–Ленин в своей брошюре «Умирающее самодержавие и новые органы народной власти» в пример всему русскому пролетариату поставил именно пролетариев–киевлян. Где впервые после Парижской коммуны была первая в мире пролетарская республика — пускай только пять дней? В Киеве, на, Шулявке, в Политехническом институте. Чьей кровью, как грозовым ливнем среди лета, затопили эту республику? Кровью киевского рабочего класса… А забастовки? И при старом режиме были, и теперь.
Забастовки действительно потрясали сейчас Киев, как лихорадка. За два месяца после Февральской революции бастовали уже и металлисты на больших заводах — Гретера и Криванека, и «Южно–Русском металлургическом», и печатники всех городских типографий, и сапожники с фабрики Матиссона, и табачники Соломона Когана, и пивовары Бродского и Калинкина, фешенебельные конфекционы Кругликова, Рабина, Сухаренко, Эрлиха и Френкеля, бастовали даже огромные, на тысячи рабочих, мастерские военного обмундирования Юго–Западного фронта на Печерске и на Демиевке.
— Молодчаги портные! — кричал кто–то. — И где это ты, Вася, столько молодцов заплаточников да штопальщиков набрал?!
— То не я, — скромно, но с достоинством отвёл похвалу Боженко. — Мое дело как члена Центрального бюро профсоюзов — коллективные договоры. А забастовочным делом руководит Смирнов.
— Это какой же Смирнов? Тот, который меньшевик, тот, который эсер, или, может, тот, который вовсе беспартийный?
— Который большевик, конечно. Иван Фёдорович. Закройщик. В подмастерьях у Френкеля был. А учился у мадам Дули на Подоле…
— A! — обрадовался Иван Брыль. — От мадам Дули! Значит, Ваня–маленький? Господи боже мой! Так это ж наш заядлый рыбак. У него еще своя рыбацкая сижа была под Аскольдовой могилой, ближе к Амосовскому парку, как раз там, где и мы с Максимом ловим! Боже мой! Вот этаких судаков он на удочку брал! Значит, возвратился уже из ссылки? А я и не знал… Максим! Помнишь нашего Ваню?..
— Еще бы! Ваня–маленький, невзрачный такой!
В кружке захохотали: сам коротышка, Максим показывал рукой от земли так низко, что если бы это было правдой, то Иван Федорович Смирнов должен бы оказаться лилипутом.
Разговор разгорался все жарче, теперь должны были политься бурной рекой воспоминания, — и свадьбу, верно, пришлось бы откладывать до другого раза, если бы в эту минуту общим вниманием не завладело новое событие.
2
Калитка распахнулась, и во двор вошли трое.
Впереди шел человек в солдатский гимнастерке без погон — теперь, на третьем году войны, так ходила почти половина населения бывшей Российской империи. Он держал древко со знаменем, свернутым и перевязанным шнурами. Двое других были одеты по–рабочему, но празднично: у одного выглядывала из–под пиджака украинская вышитая рубашка, а у другого — русская, под пояс. Сапоги у всех троих были со скрипом на весь квартал.
Знаменосец — стройный, жилистый, лет под тридцать — был по–военному подтянут и видом суров.
Это был Андрей Иванов.
Ассистентами при знамени были арсенальцы: Фиалек, председатель польской секции киевских большевиков, и Косяков — председатель завкома «Арсенала».
— Андрей! — обрадованно зашумели все. — Здорво, Иванов!
Андрея Иванова, хоть и появился он в Киеве лишь с год назад, хорошо знали не только на «Арсенале», где он работал токарем, но и на всем Печерске: до революции — как организатора тайных собраний на берегу Днепра, а со дня революции — как руководителя арсенальских большевиков и председателя Печерского районного комитета большевистской партии. Батрацкий сын из–под далекой Костромы, затем чернорабочий на Московско–Курской железной дороге, далее токарь на механических заводах в Москве, он был призван в армию в самом начале войны и воевал, пока не получил чахотку в Мазурских болотах. После госпиталя, как специалист–токарь по металлу, Иванов был отозван на военные заводы и вместе с командой питерских путиловцев и московских, от Ралле и Дука, квалифицированных металлистов прибыл на киевский «Арсенал», в кузницу оружия Юго–Западного фронта.
Иван и Максим бросились к Иванову:
— Принес–таки! А мы уже побаивались, что…
— Ура! — завопил Харитон, обрадованный вдвойне: неугомонных «политиков» Андрей Васильевич в два счета поставит на место!..
И верно: все сразу пошло по–другому. Иванов со знаменем очутился в центре. Его окружили и стар и млад. Женщины оживленно двинулись на крыльцо из кухни, а за женщинами, словно из мешка, сыпанули многочисленные малыши — брыленки, колиберденки и прочие, соседские. С улицы тоже повалил народ: соседи и прохожие, незнакомые люди. Забор и ближние деревья воробьиною стаей усыпала печерская детвора. Похоже было, что сейчас в маленьком дворике Брылей должно произойти некое выдающееся историческое событие мирового масштаба.
А впрочем, так оно и было. Сын всеми уважаемого слесаря–разметчика Ивана Антоновича Брыля, молодой арсенальский слесарь Данила женился на девице Антонине, дочери столь же известного арсенальца Максима Колиберды, а Данька с Тоськой знали все на Рыбальской, Кловской и Московской — в сторону Днепра, а в сторону суши — до Черепановой горы и Бессарабки. И отчаянные Данько с Тоськой женились, впервые в истории Печерска, а быть может, кто ж его знает, и впервые в истории всего человечества, без церкви и попа, «на веру», но — законно. Ибо красное знамя революции, — а революция ныне и была верховным законом, — должно было благословить на дальнейшую счастливую жизнь первую революционную рабочую семью. Так разве это было событие не всемирного значения?