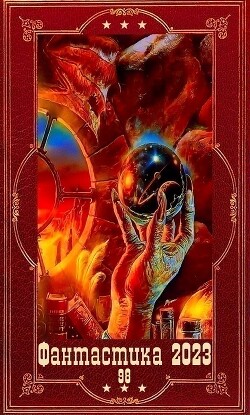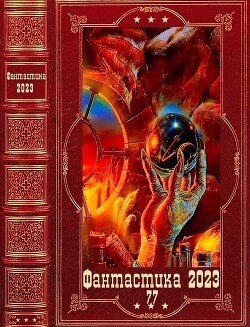Прорыв под Сталинградом - Герлах Генрих
Он больше себе не принадлежал. Он принес себя в жертву.
В блиндаж с шумом вваливается унтер-офицер Брецель:
– Господин пастор, кажется, теперь пора! Врачи уехали, остальные тоже вот-вот соберутся. С левого тыла уже палят!
Он кладет на стол сырокопченую колбасу.
– Вот, со склада. Только что разграбили.
Пастор Петерс поднимается – настоящий древний старик. Разламывает колбасу, кусает, наливает из фляги вино, предназначенное для причастия. Машинально протягивает стакан Брецелю. Тот выпивает. “Слава богу, – думает он с облегчением – кажется, приходит в себя!” Унтер-офицер суетится, собирая нехитрые пожитки. Истории дивизии среди них нет. Петерс тем временем сидит на нарах и догрызает колбасу. Он больше ни о чем не думает, ничего не чувствует. Отягощенный своими заботами, Брецель наконец рывком поднимает его на ноги, набрасывает сверху шинель, всучает одеяло и вьючную сумку и тащит на улицу. Дорога пустынна, не видно ни души. Гнетущая тишина нависла над поселком, где, кажется, вымерло все. Но затишье обманчиво – в самых укромных уголках, незаметное для глаз, пульсирует тысячекратное дыхание жизней, пропащих и всеми покинутых. Чувства отказывают. Петерс бредет, покачиваясь, рядом с Брецелем – без цели, без воли, в беспросветное нечто. Все позабылось – прошлое, настоящее, а о будущем он и не думает.
В стороне на снегу лежит человек – накрыт шинелью, под головой подушка, рядом хлеб и вещмешок. Лежит неподвижно, объятый зимним одиночеством, только глаза живут на синюшном лице.
– Не бросайте, – тихо молит он, – не бросайте!
Петерс смотрит на молящего, но все его существо как будто не здесь. В оцепенении бредет он дальше. Он слишком много видел, слишком много страдал… Но человек на дороге незаметно заронил в его душу зерно, и теперь это зерно начинает энергично прорастать. В помутившейся голове пастора поднимается шум. Что-то внутри приходит в движение: кружится и беспокойно гудит, все сильнее и сильнее. И тут сознание пронзает все затмевающее слово: “И, увидев его, прошел мимо”. Петерс словно очнулся ото сна. Застигнутый врасплох. Хватает унтер-офицера за локоть и широко раскрытыми глазами смотрит в изумленное лицо.
– И, увидев его, прошел мимо, – бормочет он.
Брецель испуган не на шутку.
– Пойдемте, пастор, надо двигаться дальше! – настаивает он, пытаясь увлечь Петерса за собой.
Но тот застыл на месте, как строптивый жеребец.
– И, увидев его, прошел мимо, – повторяет Петерс, потом поворачивается и следует на негнущихся ногах обратно.
– Господин пастор! – зовет Брецель. – Господин пастор!
“Точно умом тронулся, – Брецель в отчаянии, – и в самом деле человек спятил, чем тут поможешь”. Брецель не решается следовать за пастором. Его силы тоже на исходе. А за спиной опять выстрелы.
Пастор Петерс опускается перед раненым на колени. Как он здесь оказался? Должно быть, бросили измученные товарищи, прямо на этом самом месте, и еще подушку подложили под голову – последний знак бессильного сострадания.
– Не бросайте, – лепечет раненый. – Возьмите в Сталинград.
Петерс кладет руку на лоб солдата. Рука холодная как лед.
– Ну, уж нет! Мы не пойдем в Сталинград. Зачем нам Сталинград, нам обоим, тебе и мне. Отец наш небесный рядом, и здесь только одна дорога – к нему, – спокойно говорит он, дивясь собственным словам, которые теперь звучали по-новому.
Разбитый параличом обращает к пастору глаза, он молчит и прислушивается. Как будто прозревает неизвестность. Петерс снимает с шеи серебряное распятие. Читает возле больного молитву и причащает. В полевой сумке еще осталось вино, в другом мешке – хлеб.
Неслышно течет время. Человек на дороге забывается и неприметно отходит в мир иной. Пастор Петерс стоит рядом, смотрит в тихое, расслабленное и умиротворенное лицо. И вдруг, ощутив давящую тяжесть, сознает, как бесконечно он одинок. Взгляд падает на распятие, которое он все еще держит в руке. Распятие… “И се, я с вами во все дни…” Он будто очнулся от тяжелого забытья. Петерс делает глубокий вдох. Сколь беспредельно он, маловерный, сомневался! Петерс чувствует, как прибывает сила, исходящая от распятия и от просветленного лица умершего. Он светится счастьем, понимая, что снова готов протягивать людям руку помощи. И один, как есть один, всеми покинутый, он, с распятием в руке, принимает решение.
Петерс накрывает мертвого шинелью и уходит. Но путь его не на Сталинград. Он снова идет через поселок, над которым нависла мертвая тишина. Он видит мир другими, прозревшими глазами. Слева кладбище. Плотные ряды могил, еще с тех времен, когда мертвых успевали хоронить. На могилах кресты. Вон дом, где лежит лейтенант, которому выстрелом пробило оба глаза. Как часто он выходил оттуда, пристыженный надеждой молодого человека. “И се, я с вами во все дни до скончания века!”
На пороге вокзала все еще лежат замерзшие заживо. Но часового на дверях уже нет. Никто больше не хочет войти, а тот, кто хочет выйти, не может. Четыреста человек, там во тьме, безгласно вопиют о своих нуждах в тишину. Петерс следует дальше, он идет навстречу русским. Он думает не о себе. На тех, кто по ту сторону фронта, он, пастор, не слишком-то уповает. Но смерть в страшном ее обличье, с которой он уже тысячи раз сталкивался лицом к лицу, больше его не страшит. Он взял над ней верх. В его голове бродили другие мысли – о всех тех, кто хоронился сейчас в обыкновенных канавах или в том здании, погруженном во тьму. О слепом лейтенанте… А может, все совсем не так, как рисовалось ему в малодушии. Может, и по другую сторону фронта живут человеки? Ведь и в украинских хатах встречались люди, всюду…
Пастор оставляет Гумрак позади и направляется в лощину. Хмуро безмолвствует снежная пустыня, сгущаются сумерки. Вдалеке кто-то роняет одиночный выстрел. Но в душе у Петерса сияет заря, сменившая ночь последних недель.
Вдруг тишина оживает. Из тумана вырисовываются немые фигуры, белые, в меховых шапках, с оружием наперевес… Это они! Петерс останавливается, слышит, как колотится сердце, рука в кармане сжимает распятие. Несмотря на волнение, он не чувствует страха. Медленно, нерешительно подступают к нему чужаки. Петерс достает распятие и простирает его к небу:
– Хриштос воскрест! – кричит он по-русски. Голос его звенит над снежной гладью. – Йа свешченик!
“Господи, все что пожелаешь… Да будет воля твоя!” Но к тому, что происходит потом, Петерс оказывается совершенно не готов. Русские останавливаются. Один, шедший впереди всех и зорко смотревший по сторонам, опускает оружие, лицо его расплывается в улыбке, и он заливается смехом, глубоким неподдельным смехом. Тяжело ступая, приближается к Петерсу, берет за плечи и добродушно встряхивает.
– Батюшка! – и это краткое, задушевно сказанное словечко на несколько секунд заставляет забыть о войне. Вокруг стоят семеро других – коренастые, со вздернутыми носами, типично украинские лица: по-детски простодушные и неотесанные. С любопытством рассматривают они удивительного божьего человека. Трое из них, чуть подальше, крестятся – украдкой, будто стыдятся. И тут Иоганнес Петерс падает на колени и закрывает лицо руками.
Время на аэродроме ползет для Бройера в томительном ожидании. Вдруг майор дергает его за рукав.
– Глазам своим не верю, вы только посмотрите! Кажется, это он!
– Где? Кто?
– Да тот тип с бумагами!
И в самом деле, врач собственной персоной! Оба устремились вперед. При нем ли бумаги? Да, они при нем, и даже подписаны! Не мешало бы ему поторопиться. В небе уже кружит очередной самолет. Но врач не спешит. Он тщательно вчитывается в имена, недоверчиво приглядывается к получателям, просит предъявить солдатские книжки. Наконец-то – заветная справка у Бройера в руках. “Одобрено, д-р Ринольди” значится на ней чернильными размашистыми буквами. Самолет наматывает круг за кругом. Бройер кидается к дежурному офицеру, который уже отбирает из беснующейся массы новых людей.