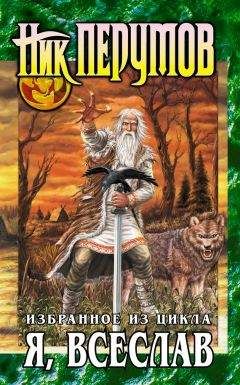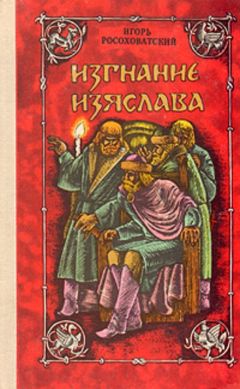Леонид Дайнеко - Всеслав Полоцкий
Но бабушке-то что с того, что нехристи? А невзлюбила, и все, и никогда не подобрела. Мать понесла, родила первенца, назвали Ратибором, в крещенье — Иоанн. Брат, говорят, родился белолицым и плакал жалобно, ручки тянул, а бабушка к нему не подошла. Брат рос, бабушка его не признавала. Велела не пускать к себе, и слуги выполняли ее наказ. Отец, как будто не его дело, молчал. Охотился, воевал литву, ятвягов да латгалов. В Киев звали — не ходил. Дары обратно отсылал. И так прошло еще три года. И как-то раз…
Брат прибежал к отцу, плачет, кричит что-то про бабушку, а что — непонятно. Вышел отец, спустился вниз. А во дворе — обоз. Бабушка стоит в своей богатой соболиной шубе.
— Да что ты задумала? — спрашивает отец.
— А ничего. Всему свой срок. И всем. И мне мой срок пришел.
Сказала бабушка и улыбнулась грустно. И снег идет и тает на ее щеках. И — тихо так, и вроде ничего не происходит, только оторопь берет. Дух заняло!
— Да, срок, — чуть слышно повторила. — Взрастила я тебя, женила…
— Мать!
— Помолчи! Женила — и женила. — Брови свела, губы поджала. Стоит, высокая, сухая, волосы как смоль из-под платка, а снег на них — словно седина… — Женила. И внука дождалась. Наследника!
— Ты…
— Да! Наследника! Не этого попервыша слюнтявого, а настоящего. Ни ты о нем еще не знаешь, ни она. А он будет настоящим князем. Князь всем князьям, уж я-то чую! А посему прощаю ее, жену твою, — уважила. Теперь ей носить, держи! — И шубу из белых соболей снимает, подает.
— Я… Мы… — Отец не знает, что и сказать.
— Молчи! Бери! Она — твой господин. А я… Не мной придумано: коль баба на сносях, ей должно потакать. Чего ей больше всего хочется? То и делаю, ухожу. Прощай!
И съехала. И почитай, целый год жила за стенами, по-над Двиной, в летних хоромах. Тихо жила, в город не являлась. Не принимала никого.
Мать сразу ожила, повеселела. Ходила в белой соболиной шубе.
Покруглела, разрумянилась. Брат говорил, стала она красивей всех. И всех добрей. И Кологрив рассказывал, что на Руяне-острове ее любили все, король дочь свою не хотел отдавать.
— Нет! — он сказал отцу. — И не проси. Она — мой оберег, так Святовит говорил.
А Святовит — грозный бог, ему не золото несут, только кровь. И храм его возведен на крови, и крыт он черепицей цвета крови. Отец, отвергнутый, ушел…
И все, что было добыто за два года, отдал руянским сторожам. И по рукам ударили. И ночь была, и море бушевало, и гром гремел. А сторожа молчали, словно и не видели, как по скале люди ползут — вверх, вверх, И — к терему, на стену, под решетку. Наконец она, заветная светлица, и в ней княжна, встает, идет к отцу. Как вдруг… «Аркона! Кр-ровь, кр-ровь!» — кричат, бегут со всех сторон. И подступают все ближе. Ах, вот вы как! Вот что задумали, засаду! И крикнул отец:
— В мечи! Бей! Бей!
И били. Сами — и отбивались, отступали. Шли, ползли — все ниже, ниже по скале. Стрела, боярин говорил, ему в бок угодила, под ребро, так он ее не вынимал, а обломил. И — на ладью, и — к веслам.
— Вот, — показывал Кологрив, — сюда она, треклятая, вошла. И упади я, оробей — достали бы и князя, и королевну, и тогда не было б тебя, Всеслав. Да и меня бы не было, не пощадили бы руянцы. Они — ого! — воители. И злы, как псы!
А мать, говорили все, — добрее ее не было. А как она отца любила! В ту ночь, когда он нес ее к ладье, она кричала тем:
— Он муж мой! Муж! Опомнитесь!
А те со стен — стреляли. И не попадали. Так Святовит велел!
Ушел отец. В Полтеск пришел, венчался. Еще пять лет прошло — и примирилась бабушка, отъехала за стены, мать поправилась, похорошела. Весна была. Не первый уже год такое было — дядя гонца прислал, звал К себе. И отказался бы отец, но мать неожиданно запросилась:
— Едем! Едем! Грех столько раз отказывать!
Уговорила. Поехали. Зачем она поехала, понятно.
Пять лет прошло, и наконец она — княгиня, самовластная, и правит Полтеском не бабушка — она. И сын растет, и она снова на сносях, и муж при ней: завидуйте!
Приехали. Дядя принял их, одарил. Так одарил — все удивлялись: что это с ним на старости? Совсем размяк! Если, конечно, не задумал какое-то лихо…
Задумал или нет — то не холопье дело. И вообще ничье! А посему пусть князь черниговский Мстислав, а также Судислав, князь плесковский, спокойно спят: в то лето Ярослав, князь киевский, Великий князь, братьев своих и соправителей никак не поминал. Не до того было — племянника встречал и привечал; пировали, по селам они ездили, на лов — на туров, на диких лошадей. А иногда вдвоем — только вдвоем! — пускались они в тихое Предславино. В Предславине тогда сидел затворником… тот самый Олаф Толстый, конунг, сын конунга, отвергнутый жених, соперник дядин.
Вон она, жизнь! Кнут Свенсон, конунг датский и английский, разбил его, и бонды его предали, и бежал Олаф из отчины. Пришел на Русь об одном парусе, с дружиной в сорок три меча, сына привез. И сидит теперь в Предславине, помалкивает. А дядя явится — все равно ни слова. Рог подадут — не пьет. И мяса не берет. На нем, на беглом конунге норвежском, широкий черный куколь, четки в руках. Сидит, перебирает их и хмурится.
Сам-то Олаф ростом невысок, румян, широк в плечах. Но сила была в нем. Стрелой без наконечника с тридцати шагов пробивал подвешенную на шесте свежеснятую воловью шкуру. А двадцать лет тому назад на реке Темпе он вот этими самыми руками, которые сейчас перебирают четки, обвязал сваи Лундунского моста веревками, а потом они всей дружиной навалились на весла… И мост рухнул! Датчане, стоявшие на нем, попадали в воду, другие бросились спасаться в крепость. Да не спаслись!
Где теперь прежний Олаф? Дядя сколько уже раз сулил ему на выбор Волынь, Берестье, Червенскую землю, войско давал. И ничего взамен не требовал, владей и богатей, будь с нами заодин. А конунг только морщился и отвечал, что меч его отныне в ножнах и что он не собирается обнажать его ни здесь, ни в Норвегии. Придет зима, он простым паломником отправится к святым местам.
Лицо у Олафа широкое, румяное, кожа белая, а в темно-серых глазах иногда вспыхивал такой неистовый огонь, что даже дядя Ярослав смущался и вставал. И уходили дядя и племянник. А Олаф их не провожал. Он даже не кивал им на прощанье. Сын его Магнус однажды не выдержал, сказал:
— Вы на него не гневайтесь. Он хочет умереть.
— Умрет, умрет, — ответил дядя. — Мы все умрем. Вот только кто скорей? — И засмеялся зло.
Магнус пожал плечами. А отец…
Он вдруг почувствовал, что смерть витает где-то рядом. И весь обратный путь был сам не свой.
Мать встретила его, она была здорова. И брат здоров. И не приходил гонец из Полтеска… Начался пир. И дядя вывел сыновей. Тогда их было трое: Владимир, Изяслав и Святослав. Владимиру, старшему, — девять лет, Изяславу — пять, Святославу — три. А Всеволод, тот самый Всеволод, он был еще в утробе. Владимир вырастет, дядя посадит его в Новгороде, Владимир будет править там, ходить на чудь, поставит златоверхую Софию, и там же первым его похоронят. Ты с ним, Всеслав, не встретишься — он рано умрет.
А младших брат не любил, избегал, играл один. Мать сидела в тереме, ей уже было тяжело, срок подходил, боялась сглаза. Брат рассказывал: проснется он ночью, а она все молится да молится… Днем — опять она всех веселей, добра, кротка. А эта, дядина жена, всегда находилась при ней, но ничего плохого не делала, не замечали. Напротив, как могла, оберегала, говорила:
— Будет сын. Красивый, смелый, как отец. Не бойся! — И смеялась.
А отца увидит — замолчит. При нем она ни разу даже не улыбнулась. А чтоб о прошлом… Ни она, ни дядя — ни словечка.
Жара прошла, дожди пошли, и на Илью решили отъезжать. Тогда в последний раз дядя с отцом отправились в Предславино.
И в этот раз, как и всегда, Олаф сидел в куколе и с четками. Но попросил вина. И мясо ел. Дядя спросил, что это с ним. Олаф ответил:
— Я видел сон.
— Какой?
Он не ответил. И больше ничего не говорил. Ел, пил, как все. Потом, когда дядя собрался уходить, Олаф кивнул ему и попросил, чтобы отец остался. Дядя обиделся, но виду не подал, вышел. Отец сидел не шевелясь. Олаф откинул капюшон, огладил бороду, сказал:
— Я слышал о тебе, князь Вартилаф.
— От Эймунда?
— Нет, Эймунд уже там. — И конунг посмотрел на небо. — Он был отважным воином, и, думаю, они помилуют его. Ярл Эймунд умер хорошо, в бою, с мечом… — Олаф нахмурился, сгреб четки, отбросил их. Проговорил в сердцах: — Завидую! Я и тебе завидую. Ты еще молод, князь, а скальды уже знают о тебе. И говорят добрые слова. А дядя твой… — Конунг замолчал. Долго молчал. Потом спросил: — Его супруга Ингигерда красива, да?
Отец кивнул. Конунг сказал:
— А я так никогда ее не видел. Тогда, в Норвегии, нас сватали, но прибыл Ярислейф, и шведы передумали. Все ждали, я разгневаюсь… А я был рад. И знаешь почему? Я видел сон. И не простой, а вещий. Такие сны, не верь глупцам, совсем не колдовство. Они Божье пророчество, и потому я верю им. Итак… — Он задумался, полуприкрыв глаза… Вновь заговорил: — В ту ночь мне впервые приснился отец. А я ведь никогда живым его не видел. Вначале он ушел, потом родился я. Ты знаешь, где и кем он был убит?