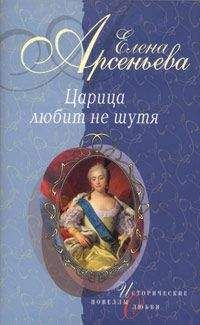Сергей Сергеев-Ценский - Севастопольская страда. Том 2
О смерти того, кому он служил без малого тридцать лет, Сакен узнал только на другой день от парламентеров, офицеров союзной армии: кабель, проложенный интервентами между Балаклавой и Варной, помог им получить эту новость, взволновавшую всю Европу, еще накануне к посрамлению русских курьерских троек; телеграфную же линию в Севастополь от Киева только еще вели, медленно спеша.
Сакен был поражен до того, что заперся у себя в кабинете, рыдал и бил перед иконой поклоны, но в это время через его адъютантов и Васильчикова слух о смерти царя расходился по гарнизону, пока еще шепотом, «по секрету», однако с быстротой необычайной.
Правда, иные, и очень многие, пытались не верить этому слуху, так как шел он со стороны противников, но батареи противников и даже стрелки их, как бы в знак сочувствия защитникам Севастополя, многозначительно умолкли, и в наступившей тишине гремела одна только эта острая весть, передававшаяся шепотом, на ухо, но стоившая энергичнейшей канонады.
Васильчиков вынужден был вывести Сакена из его траурного уединения напоминанием, что надо бы привести войска вверенной ему Крымской армии к присяге новому царю Александру II, как это сделано уж, разумеется, в войсках обеих столиц.
На это Сакен ответил, что бог укрепил его и внушил ему только одно решение: немедленно послать кого-либо из адъютантов к инязю Меншикову, в Симферополь, чтобы у него, главнокомандующего, испросить необходимых распоряжений. Кстати, ему же по мнению Сакена, надо было передать для утверждения и проект Тотлебена об устройстве третьего редута впереди Малахова кургана.
II
Меншиков ответил Сакену на другой же день:
«Поспешаю ответствовать на письмо вашего высокопревосходительства, в коем вы желаете знать мое мнение относительно построения редута в двухстах пятидесяти сажен от Малахова кургана, дабы парализовать действие английских батарей, сосредоточивающих свои выстрелы на этот курган. Я нахожу предположение это еще тем более полезным, что таковой редут послужить может опорным пунктом для дальнейших действий к овладению английскими батареями между Килен-и Лабораторною балками…»
Получив разрешение на новый редут, Сакен мог уже говорить с Тотлебеном вполне авторитетным тоном: старая голова переложила с себя ответственность на другую, более высокопоставленную старую голову, — и подготовка к устройству третьего редута началась.
Может быть, она была бы отложена в долгий ящик, если бы Сакен знал, что Меншиков уже не главнокомандующий, но об этом в день отправки письма не знал и сам светлейший, шутивший перед отъездом, что ввиду святости Сакена он оставляет Севастополь на попечение самого господа бога.
Сакен и сам втайне думал, что не только он любит бога, но и его тоже любит бог, так что любовь была не без взаимности. Ночью же 20 февраля он лишний раз убедился в этом, поскольку чистейшие случайности имеют все-таки способность убеждать суеверов.
В его штаб-квартиру попала пущенная с одной из английских батарей конгревова ракета весом в два пуда, пробила крышу, потолок и стену и, разорвавшись, зажгла кипы бумаг, лежавших на полу, и самый пол. Конечно, произвела она переполох сильнейший. Васильчикову, Гротгусу и другим, жившим в доме, пришлось спросонья тушить пожар, который и был потушен довольно быстро, но Сакен долго не отпускал спать свой штаб, принимаясь снова и снова воодушевленно рассказывать, как ракета, отклонись она в своем полете всего на каких-нибудь три шага, могла бы ударить в кровать, на которой дремал он тяжелой дремотой, и его уничтожить, стереть, вычеркнуть из списка живых и как «рука всевышнего» отвела ее в сторону и спасла ему жизнь.
Сквозь проломы в потолке и крыше любопытно глядело звездное небо и щедро вливался холодный влажный ранневесенний воздух; в пострадавших комнатах еще только заканчивали уборку вестовые казаки, выметая последние клочья обгорелых бумаг, комья штукатурки, щепки, осколки, а Сакен уже тащил, энергично действуя длинными руками, и Васильчикова, и Гротгуса, и других чинов штаба помолиться перед образом, «воздать от чистого, умиленного сердца благодарность создателю за чудо, явленное недостойному рабу, болярину Дмитрию…»
Впрочем, больше уже в эту ночь «болярин Дмитрий» не ложился спать, а все прислушивался, одетый в теплую шинель, не летит ли к нему новая гостья по проторенной уже дорожке, и все поглядывал в потолок, пряча зябкие руки в карманы.
Уходить куда-нибудь из обжитого уже дома все-таки не хотелось, и утром продырявленная крыша, потолок и пол были исправлены рабочими, приведенными унтер-офицером Дебу.
Разыграть роль благодетельницы-судьбы в отношении к своему ближнему иногда бывает приятно, и адъютант рабочего батальона поручик Смирницкий вполне намеренно командировал к заместителю главнокомандующего вместе с нарядом вызванных рабочих не кого-либо другого, а именно Дебу. Ему хотелось, чтобы барон при случае обратил на него внимание, потому что представление в прапорщики, о котором говорил капитан-лейтенант Стеценко, вполне могло заваляться и даже затеряться в Петербурге, особенно в такую пору. Слух о смерти императора Николая, державшийся втайне, то есть передававшийся всюду шепотом, дошел, конечно, и до рабочего батальона в адмиралтействе, и если сам Дебу под влиянием его воспрянул духом, то Смирницкий, как более знакомый с канцелярскими делами, решил, что лучше все-таки о производстве как-нибудь напомнить в штабе, чтобы отсюда согласились послать запрос в Петербург, в министерство.
Дебу, успевший уже узнать рабочих своей роты, взял из них наиболее расторопных плотников, кровельщиков, штукатуров, чтобы заделать все бреши в штабе как можно скорей и удачней. Говорить же ему советовал Смирницкий с самим Сакеном или, если уж совсем не явится возможности к этому, то с князем Васильчиковым, так как обращаться в канцелярию было бы бесполезно.
Однако Дебу не представлял, как он будет говорить об этом: Сакен был недавний человек в Севастополе, адмирал же Станюкович, хорошо знавший его, Дебу, был в это время в Николаеве, сдав свой пост командира порта Нахимову.
Однако ему не пришлось обращаться к Сакену с жалкими нотами просителя в неуверенном голосе: барон заговорил с ним сам, когда плотники заделывали развороченный пол в его кабинете.
К своему кабинету чувствуют понятную нежность даже и суровые главнокомандующие сухопутными и морскими силами, поэтому среди множества дел, связанных с ходом обороны и требующих его личного вмешательства и решения, Сакен все-таки уделил минуту внимания и рабочим.
— Да-а, вот какой может произойти случай, братцы! Какая-то залетела шальная ракета, и я… едва не был убит, братцы! — сказал он, как бы ища сочувствия у нижних чинов и обращаясь непосредственно к представителю их унтер-офицеру.
— Избави, господи, от напрасной смерти, ваше высокопревосходительство! — в тон ему, как бы от лица всей солдатско-матросской массы, ответил унтер-офицер, вытягиваясь перед ним сразу всеми несильными мышцами своего легкого тела.
— И господь не допустил до напрасной смерти! — торжественно протянул палец кверху Сакен.
— Слава тебе, господи, слава тебе! — истово перекрестился унтер-офицер, поглядев туда, куда был устремлен перст главнокомандующего.
Но перекрестился он не по-православному: он прикоснулся пальцами сначала к левому плечу, потом к правому, и Сакен тут же заметил это.
— Католик? — спросил он. — Поляк?
— Так точно, католик, но не поляк, а француз по отцу, ваше превосходительство, — отчетливо ответил унтер-офицер, и Сакен удивленно высоко поднял брови.
— Францу-уз?.. Вот как, скажи пожалуйста!.. Француз? А как фамилия?
— Дебу, ваше высокопревосходительство… Представлен к производству в офицерский чин и ожидаю производства.
— А-а? В прапорщики представлен? Это другое дело… Это — совсем особое дело…
Сакен смотрел на него очень внимательно, не опуская бровей, и Дебу думал уже, что вот неожиданно для него наступил благоприятный момент изложить свою просьбу, но подошел с какою-то бумагой Васильчиков и отвлек Сакена, который вышел вместе с ним из кабинета, а вскоре даже уехал куда-то.
Подходящий момент был упущен, однако Дебу счел большой удачей и то, что он как бы представился барону, и тот может уже теперь вспомнить о нем при других обстоятельствах.
Отчасти хорошо, пожалуй, думал Дебу, даже и то, что подошел Васильчиков и не пришлось докладывать Сакену о такой неприятности, как два года арестантских рот, отбытых в крепостце Килия за участие в кружке Петрашевского. Неизвестно ведь было, как мог бы посмотреть на это богомольный барон, недавно подавлявший революционное восстание в Венгрии.
Наконец, производство затянулось не для одного него только: и Бородатов, разжалованный два года назад, пока еще не получил тоже чина, к которому был представлен в прошлом еще году, а ходил, как и он, с двумя белыми басонами унтера на солдатских погонах.