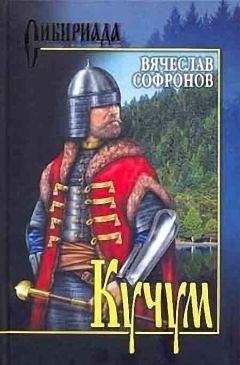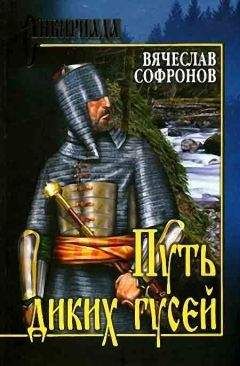Борис Дедюхин - Василий I. Книга 2
Художническое своеволие на его иконах принимал Андрей уже без былого недоумения, с пониманием тайны изографического искусства — новое, иное откровение поражало его сейчас.
Мария на иконе Феофана не была ни отвлеченной, малопонятной евангельской матерью, родившей Иисуса без зачатия ни простой земной женщиной — женой плотника Иосифа, но воспринималась истинной матерью всего сущего: это была такая понятная каждому славянину с языческих времен и по сей день дорогая и незабвенная Берегиня, предшественница Перуна и даже самого Рода с Роженицами!
Если раньше озадачивался Андрей тем, дана ли Феофану способность самолично лицезреть горние силы, то теперь его как мастера восхищало умение Грека тонко почувствовать и отразить в символах самое сокровенное и трепетное в судьбе того народа, среди которого он жил, для которого творил. Этот народ нуждался сейчас в бережении, в сохранении того, что легло в основу русской народности, что осознал он и оценил, вернувшись с Куликова поля. И неслучайное тут совпадение: можно рассмотреть на иконе, кроме самой Берегини, и берег жизни, и трепетную березу — священное дерево славян, обязательную принадлежность летних молений о дожде — в семик да Троицын день, а в языческие времена четвертого июня.
Андрей спросил без обиняков:
— Где видел ты такую Пречистую Деву?
Феофан все сразу понял, ответил с полным прямодушием:
— Гдэ же больше… как нэ на Руси! Трыдцать лет уже живу здэсь. И в Новограде, и в Вологде я пыл, там таких дэф с ангельскими крыльями зовут Берегинями[113]. — Феофан неспешно прошелся, по обыкновению, от окна к западной арке храма, придирчиво глянул на доску, вернулся уже более скорым шагом и положил ярко-красный широкий мазок (он выписывал башмаки на ногах Марии). Затем подошел снова к Андрею, продолжил тоном большой искренности: — Ты ездил образовываться в Царьград, на Афон… Но, тарагой Андрэя, тэбе там нечему учиться… Нэ веришь?
Андрей верил вполне, ибо сам понял во время поездки, что никаких тайн изографического мастерства для него уже нет и никто из византийских мастеров не мог писать лучше, чем умел он сам, однако не стал говорить это, лишь возразил уклончиво:
— Я не зря ездил…
— Во-о… И я нэ зря в Новограде и Вологде пыл. Вы чтите одного русского мастера, инока Печерского монастыря Алипия. Я пыл в Кыеве, видал его доски, хороши!.. А в Новограде какие русские мастера писали, знаешь ли ты, Андрэя?
— Сежир, Радио…
— Вэрно… А еще чудные изографы Георгий, Олисей, Стефан, Микула… Эт-то у них я Берегыню-то подглядэл…
— А началась война с Новгородом, ты и вспомнил? — подсказал Андрей. Для Феофана такой оборот разговора оказался неожиданным, он смотрел на Андрея в упор, в черных глазах его было удивление И некая даже растерянность, он долго собирался с ответом, подбирал, видимо, нужные слова, однако произнести их не успел — в дверном проеме храма появился юродивый и заблажил страшным голосом:
— Обаче всуе мятется всяк человек живый!..
От неожиданности ли, предчувствуя ли недоброе, Андрей чуть пошатнулся и прислонился плечом к стене, почувствовав через тонкую ткань рясы холодок и колючесть камня. И Феофан опешил, не стронулся с места и не пошел, по обыкновению, прочь от расписываемой доски, сделал неверное движение кистью — под башмаком Марии получилось красное пятно, словно бы лужица крови.
Тут же рык трубы ворвался в храм и отозвался эхом в куполе его. Изографы вышли на паперть. Глашатай сидел на высоком рыжем коне, кончив трубить, объявил:
— Великий князь начинает казнь преступников. — Заметив на себе тяжелые взгляды монахов, добавил от себя уже: — В велием гневе государь.
— Будь проклят гнев его, ибо жесток! — выговорил Андрей страстно.
Глашатай не расслышал или вид такой сделал, стеганул плеткой коня по крупу, развернулся и помчался галопом в сторону солнца, скоро скрывшись в розовой пыли.
— Аз есмь червь, поношение и презрение, — гундосил юродивый. — От всех беззаконий моих избавь меня, поношение безумного дал ми еси…
— Надо к великой княгине, к Евдокии Дмитриевне, — горячечно проговорил Андрей.
— Вэрно, она нэ допустит! — уверен был и Феофан.
Но великая княгиня была уже на Кучковом поле. Она и Софья Витовтовна сидели в специально принесенных, обитых рытым бархатом креслах рядом с Василием Дмитриевичем, по приказу которого началось четвертование: приговоренным к смерти отсекли руки, затем ноги и в последнюю очередь головы, чтобы выставить все это на четырех дорогах…
Киприана они нашли в митрополичьей церкви, где он истово молился, опустившись на колени. Услышав за спиной шум шагов, не поднялся, лишь скосил голову. Понял сразу же, почему пожаловали к нему изографы, упредил их благочестивыми размышлениями:
— Горе нам, что мы оставили путь правый. Все хотим повелевать, все быть учителями, не быв учебниками. Новоначальные хотят властвовать над многолетними и высокоумствуют. Особенно скорблю и плачу о лжи, господствующей над людьми. Ни Бога не боясь, ни людей не стыдясь, сплетаем мы ложь на ближнего, увлекаемые завистью. Лютый недуг — зависть: много убийств совершено в мире, много стран опустошено ею… Приобретем братолюбие и сострадание. Нет иного пути ко спасению, кроме любви, хотя бы кто измождал тело свое подвигами — так говорит великий учитель Павел. Кто достиг любви, достиг Бога и в нем почивает… — Произнеся это ровным нравоучительным голосом, Киприан снова повернулся к иконам, снова стал истово молиться, гулко стукаясь лбом о дубовые плашки пола: замаливал великий грех, который взял он на себя, как и обещал великому князю…
8На Самсоновом лугу за Москвой-рекой[114], где пасли лошадей великого князя и косили сено для его конюшен, кто-то зажег оставшуюся на корню подсохшую траву, и теперь желтый дым застилал весь окоем, а потушить огонь никто не торопился, не до того всем в Москве было: который день уж шли на лобном месте казни. Весь привычный уклад жизни в Москве вдруг нарушился, больше стало в Москве озорников и бесчинников, вольготно чувствовали себя блудники, прелюбодеи, резоимцы, ротники, клеветники, поклепщики, лживые послухи, нечистые на руку корчемники, тати, разбойники и грабители. Там, глядишь, подрались двое-трое, у кого-то бороду выдрали либо ус, кому-то зуб выбили или нос расквасили — раньше бы вмешался народ, а сейчас — ладно, пусть их, до них ли, когда головы с плеч летяг, руки-ноги живым отсекают… Свели со двора у мужика лошадь, он признал ее у заезжего купца, а тот говорит: «Купил я ее». Надо бы разобраться, да опять некому: княжеские и боярские тиуны вовсе перестали заниматься судами да тяжбами, не оправляли виновных людей. Бобров безнаказанно стали красть из силков, знаки стирать на бортяных деревьях, выдирать из дупла диких пчел с медом, ломать охотничьи перевесы, резать и красть скотину, угонять от пристанища лодки, воровать одежду, оружие, да вот еще и княжеский даже луг подожгли.
Евдокия Дмитриевна вняла мольбам монахов-изографов и попыталась смягчить заболевшую душу сына — да, она не считала Василия жестоким, но находила глубоко несчастливым и нездоровым.
Как всякая честная вдова, как вообще всякая женская личность Руси того времени, по смыслу своего общественного положения была Евдокия Дмитриевна постницей и пустынницей, хотя и не жила в монастыре. Терем ее после смерти мужа стал кельей черницы, и в черничестве заключался смысл ее существования, ее истинное призвание. Она ходила пешком к Сергиевой Троице, долгие часы проводила в Переяславле у гроба преподобного Никиты и у честных его вериг, молила всех святых и угодников быть благонадежными ее ходатаями к Богу.
Сначала незабвенный образ мужа был предметом ее истовых заклинаний, а потом все больше скорби и заботы стал вызывать старший сын, первенец ее Василий. Не материнскую радость от успехов и благополучия его вызывал он, но постоянные и крепнущие тревожные предчувствия. И ни лучика надежды не просверкивало: она слишком ясно видела, что в этом неустроенном, озлобленном завистью и застарелой враждебностью мире нельзя ждать успокоения. Когда в набережных сенях, где стоял княжеский престол, Василий принимал иноземных посланников или давал в средней горнице пир в честь дорогого гостя, она не могла сдержать слез — сначала были они от радости и гордости за сына, а потом от сознания быстротечности и зыбкости этого благополучия, от сознания, что безопасности нет и не может быть в этом страшном житейском море предательств, мести, коварства, что не наступит никогда время простых, обыденных забот, время благоденствия и неубывающей радости. Нет, лишь новые семена вражды и раздора приносятся в Москву отовсюду, семена эти дают все более сильные побеги в юном, неокрепшем сердце Василия. Вот и эти ужасные казни…