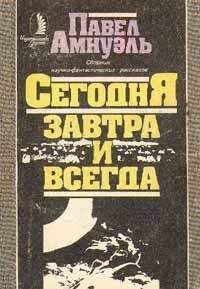Валерий Кормилицын - Держава (том первый)
Тот же барак. Те же койки. И тот же командир.
Господа! — обратился к товарищам Рубанов. — А ведь мы — ОФИЦЕРЫ.
Все замерли, переваривая эту мысль, катая её туда–сюда в мозгу, и вдруг заорали… Несолидно так. По–детски:
— У–у–ра-а! Офицеры-ы!
Лишь один Дубасов грустно сидел на своей койке и всё не решался отпороть свои портупей–юнкерские погоны.
— Не грусти, дружище, — хлопнул его по плечу Аким. — Мы уважаем тебя, ты наш товарищ и однокашник. А лет через десять, может, ещё обойдёшь нас в чинах. Господа! Ура Дубасову, пострадавшему за честь Государевой роты.
— У–ура–а, — орали юнкера, вернее, уже подпоручики, и лезли обниматься к повеселевшему старшему унтер–офицеру 145‑го Охтинского пехотного полка.
Вздохнув, Дубасов тоже заорал «Ура», сам не понимая, чему он радуется.
А потом дружно начали «отдыхать».
Шакалы стаями кружили вокруг лагеря, с подвывом расхваливая свой продукт. И их товар постепенно передислоцировался сначала в руки, а затем и в желудки новоиспечённых офицеров.
В этот вечер даже Зерендорф не возражал против «отдыха». Да и как возразишь — кроме Дубасова все стали подпоручиками.
Утром, проснувшаяся рота юнкеров–подпоручиков, по привычке построившись на главной линейке, не обнаружила в спаянных своих рядах старшего унтер–офицера Дубасова.
Начались активные поиски.
Подошедший подлечить страждущих бравый шакал Иваныч, посмеиваясь сообщил, обращаясь к Рубанову:
— Ваше высокоблагородие, — поглядел на золотые погоны, — того–этого, похоже, ваш друг на станционный буфет забралси. И ещё кто–то с ним…
— Женщина? — растерялся Аким.
— Никак нет. В мужеском обличье.
«Наверное, на дачу к Ольге пошёл, — подумал Аким. — Забыл ему сказать, что она в Питере, а Бутенёвы на воды уехали. Главу семьи лечить», — по офицерской уже дороге, в компании Зерендорфа, Пантюхова и лупившего для бодрости в ротный барабан, непротрезвевшего Антонова, двинулись на станцию.
Шакал Иваныч, немного отстав, брёл за ними, в расчёте, что вскоре его товар будет востребован.
Бывшие юнкера, а ныне подпоручики, смело вышли на перрон, лихо козырнули в ответ жандарму, который повёл их к расположенному чуть в стороне от вокзала солидному двухэтажному буфету, с крыши которого свисали ноги в сапогах.
— Хорошо, что сранья начальства нет, — обьяснял пожилой жандарм. — А мы с понятием, сами в армии служили.
— Всё в толк не возьмут, что уже не юнкера, — вытянул руку по направлению к покатой крыше со свисавшими сапогами Рубанов. — Ба-а, да второй — граф Игнатьев, — удивился Аким. — Опять какую–нибудь дуэль придумали.
— Скорее всего, с гауптвахтой перепутали… Архитектура у зданий одинаковая, — выдвинул свою версию Антонов и бодро заколотил в барабан.
Пожилой жандарм, сдав охраняемый обьект, благоразумно затерялся на станционных просторах.
— Успокойся, — остановил барабанщика Зерендорф. — А то ещё, чего доброго, маршировать там начнут. А буфет — точная копия Царского валика с палаткой, — сделал он свой фельдфебельский вывод, — и даже лесенка такая же. Может, решил выпросить у государя чин поручика, — заржал он.
— Точно. Значит, оправдываться к батюшке–царю пошёл, — поддержал Зерендорфа Пантюхов, покатываясь от смеха. — Как снимать–то их будем? По пьяне, русский человек куда хошь залезет, а вот слезть, да ещё с похмелья, уже проблема.
Вот тут со своим шакальим советом и подкатил Иваныч.
— Ваши высокоблагородия, окромя пожарных их никто не снимет.
Вновь испечённые подпоручики поглядели в сторону каланчи, а затем на сидящих на краю карниза, и во весь рот зевающих соперников.
— Не дотумкали ишшо, где находятся, — сделал правильное умозаключение Иваныч. — Айдате до тушил провожу. А то ихний козёл злюшший, как собака.
«О брандмайоре, что ли, говорит?» — согласился с Иванычем Рубанов.
Оставив Пантюхова с Антоновым развлекать «скалолазов», Зерендорф с Рубановым быстрым шагом направились к каланче.
Когда Иваныч приоткрыл калитку, пропустил друзей и сам прошёл во двор, на них, выставив боевые рога, бросился громадный козлище с белой бородой.
Зерендорф птицей взмыл на забор, а Аким подставил ногу в сапоге под мощнейший удар бестолкового козлиного лба, и впечатался спиной в затрещавшие доски забора.
Шакал, освоивший вредный характер животного, так как иногда радовал опалённые огнём сердца тушил водочкой, кинул ему пирожок с капустой.
Бородатая нечисть, быстро его слопав, вновь стала козлиться, стращая гостей рогами.
— Кар–р–рау-у-л! — завопил шакал, жидясь расстаться ещё с одним пирожком — продукт денег стоит, и прикидывая, куда бы сигануть от рогов упыря.
Услышав крик, временами переходящий в вой, от которого у козла побежали по хребту мурашки, на крыльцо вылез заспанный брандмейстер.
— Чего орёшь с утра? — сделал замечание шакалу и смачно, во всю пасть, зевнул. — Шарик, на место, — велел козлу.
К удивлению подпоручиков, рогатый убийца подчинился и ушёл досыпать в конюшню.
— Ваша помощь требуется, господин брандмейстер, — вежливо начал речь Рубанов. — У нас пожарные ученья на станции проходят, надо двух человек из огня спасти.
— Чего-о? — козлом набычился тушила. — С утра что ли?
Пришедший в себя шакал потряс лотком, в котором нежно зазвенели бутылочки под красной и белой головками.
Уловив умилительный звон, пожарный поднял три пальца.
— За каждое колено выдвижной лестницы, — объяснил их роль.
— Идёт! — согласился Иваныч, жалея в душе хотя бы ещё о двух поднятых пальцах: «Как бы славно было, ежели бы пять флаконов взяли».
— Кто идёт? — слез с забора, но ещё не проникся темой Зерендорф.
— А вы–то, господин фельдфебель, откуда взялись? — отсчитывая рубли, съязвил Рубанов. — Только без господина скачка, — отдавая деньги, предупредил пожарного.
Первым сняли Игнатьева. Граф всё–таки и подпоручик.
Пока он просил прощения у буфетной двери и гладил медную ручку, подали лестницу Дубасову.
Ухая и матерясь, тот спустился с небес на землю и полез обниматься к своим спасителям.
Как очутились на крыше, герои не помнили.
Подошедшему армейскому капитану Зерендорф на полном серьёзе отрапортовал, что проходят совместные учения роты и пожарных.
Капитан поверил. Уж очень правдивый вид был у юнкеров в офицерских погонах.
К обеду, бывшая государева рота в полном составе, во главе с полковником Кареевым, прибыла на станцию.
Дубасов глянул на высокое здание буфета и присвистнул, поразившись, как сумел вчера залезть на крышу.
Эта мысль всё время, пока ехали в пригородном поезде, штыком мосинской винтовки, колола его голову.
Выгрузившись на перроне Балтийского вокзала, привычно построились в колонну.
Знаменщик Антонов бережно вынес белое древко с золотым копьём.
Музыканты грянули: «Под знамя Павловцев мы дружно поспешим», и офицеры, чеканя шаг по каменной мостовой Вознесенского проспекта, направились к своему училищу.
Перед подъездом остановились и Антонов, волнуясь сильнее первогодка, передал ему знамя. И тот с трепетом, под звуки оркестра и треск барабанов, понёс знамя в подъезд родного Павловского училища, которое для старшего курса стало приятной, но перевёрнутой жизненной страницей.
Бывшие юнкера это чувствовали и потому без мальчишеского задора, чинно и без шума, уступая друг другу дорогу, стали входить в подъезд.
До вечера они находились в родных стенах училища и прощались с ним, обходя классы, столовую и спальную комнату. Под роспись в журнале получили по 300 рублей, и в сафьяновой коробочке каждому офицеру выдали знак об окончании училища.
Аким полюбовался небольшим золотым венком из лавровых и дубовых ветвей, увенчанных золотой императорской короной. На венок были наложены совмещённые золотые вензеля: сверху — Николая Второго, и под ним — Павла Первого.
Поцеловав знак, он прикрепил его на левую сторону гимнастёрки.
Вечером, кто жил в Петербурге, разъехались по домам, договорившись на следующий день встретиться в ресторане.
Впереди был 28‑ми дневный отпуск.
В ресторан Аким пошёл в белом офицерском кителе от старика Норденштрема, с золотыми погонами на плечах, и с золотым знаком на груди.
Юнкерская жизнь кончилась, начиналась офицерская.
Потом был званый ужин дома.
Отец, к зависти младшего сына, подарил Акиму офицерскую шашку.
Вытащив её из ножен, Аким полюбовался блеском стали и прикоснулся губами к лезвию.
Георгий Акимович саркастически хмыкнул. Они с супругой подарили молодому офицеру 1000 рублей.
— Весь Питер обсуждает 6 августа, и как офицеры отметили этот день.
— Дядюшка, — по–взрослому ответил ему Аким, — весь Питер всегда обсуждает Татьянин день…
— О-о! Юноша… Татьянин день — это святое, — вступился за студенческий и профессорский праздник Георгий Акимович, по привычке уцепившись за печень. — Это великий праздник просвещения…



![Антон Волков - Битва за Свет [СИ]](/uploads/posts/books/272911/272911.jpg)