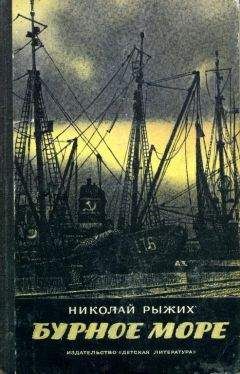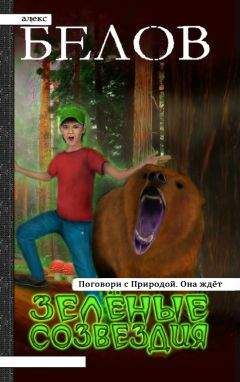Исай Калашников - Жестокий век. Книга 1. Гонимые
— Умерь свой гнев, сынок. Будь спокойнее. Думай.
Привели скрученных, избитых, в изодранных халатах Сача-беки, Тайчу и Бури-Бухэ. Увидев их, старые хатун перепугались до смерти, завыли, запричитали: Ковачин-хатун — жалобным, дребезжащим голосом, Эбегай-хатун густо, как сытая корова.
— Не мучай женщин! — крикнул Сача-беки. — Уважай старость!
— Разве можно уважать тех, кто не уважает ничего? Они оплевали достоинство хана, избранного вами!
Мать поклонилась ему:
— Хан и сын мой Тэмуджин! Они поняли, к чему приводят длинный язык и опережающие разум руки. Я вижу, они готовы стать на колени и попросить прощения.
— Ничего они, злоязыкие, не поняли! Удавлю обеих на одном аркане!
Хатун перестали выть и причитать.
— Мы поняли все! — торопливо сказала Ковачин-хатун.
— Прости, великодушный! — сквозь слезы, хлюпая широким носом, выдавила из себя Эбегай-хатун.
В сердце Тэмуджина не было жалости к этим вздорным женщинам. И он, не дрогнув, повелел бы удавить обеих. Но мать, говоря о руках, опережающих разум, напоминала ему еще раз — думай! Сейчас он доверял матери больше, чем себе. Дал знак Боорчу — освободи.
— Ну, а вы? — Немигающие глаза его уставились на Сача-беки, Тайчу и Бури-Бухэ. — Вы не слабые умом женщины, о чем думали вы?
Бури-Бухэ не выдержал его взгляда, медленно, будто его давили в затылок, опустив голову, пробормотал:
— Я слишком много выпил вина.
Взгляд Сача-беки был не ломок, в нем он видел вызов и бессильную ярость. Это — враг. И его младший брат смотрит зверенышем. «Я убью вас! Я убью вас!» — твердил хан про себя с мстительной злорадностью. Сача-беки будто услышал его невысказанные мысли, поднял лицо к небу. Пухлое белое облако плыло в ясной синеве над зелеными шапками одиноких сосен. И когда он опустил голову, в его взгляде что-то все-таки надломилось, на одно короткое мгновение мелькнул страх.
— Пьян был не один Бури-Бухэ, — сказала мать. — Все они лишились разума от архи. Так, Сача-беки?
Сача-беки молчал.
— Так? — настойчиво-просяще повторила она.
— Так, Оэлун-хатун… Мы были пьяны.
— Вы, кажется, не протрезвились и сейчас! — зло бросил Тэмуджин.
— Мы протрезвились. Прости нас… хан.
— Это голос трезвого человека! Я прощаю вас.
Их взгляды встретились. «Берегись!» — предупреждал Сача-беки. «Ты боишься за свою жизнь, трус, и я презираю тебя!» — ответил ему Тэмуджин.
Глава 9
Вечерние тени заполнили узкие улицы. Лучи уходящего солнца скользили поверх глинобитных и кирпичных стен. На кумиренках, венчающих крыши богатых домов, ослепительно взблескивали зеркальца, оберегающие жилища от злых духов. Над стенами, над крышами вставали стройные, как пагоды, темно-зеленые туи, шапками розоватой пены вздымались цветущие абрикосы и персики.
По улицам неторопливо, вдыхая сладкий запах весны, позванивая связками монет, шел с рыночных площадей люд, катили тележки мелкие ремесленники, с коромыслами и узлами на плечах тянулись к городским воротам земледельцы предместий. Тень забот и усталости лежала на лицах людей. Может быть, единственным, кого не снедали заботы, был Хо. Во всей Поднебесной империи, озаренной благодеянием золотого хуанди, нельзя было найти более счастливого человека. У него лучшая на свете жена. У него растет сын. У него есть чем кормить свою семью — что еще надо? И Хо ничего больше не желал. Но, видимо, недаром в памятный вечер проводов бога домашнего очага старый Ли Цзян услаждал медом уста Цзао-вана. От верховного владыки Юй-хуана бог домашнего очага возвратился с большим запасом милостей.
Из степи приехали послы хана кэрэитов. От них Хо узнал удивительное: сын Есугей-багатура Тэмуджин не только жив, но и возведен своими родичами в ханское достоинство. Наверное, жива и сестра Хоахчин.
Но в запасе у Цзао-вана была еще одна радость, совсем уж неожиданная.
Татарские племена после долгих колебаний решили отложиться от Алтан-хана. Император повелел сурово наказать отступников. В степь снаряжалось войско. Юнь-цзы и Хушаху просили кэрэитов помочь в войне с татарами. Те охотно согласились. Но столь легкое и быстрое согласие возбудило подозрение высоких сановников. Хо было велено вызнать все их тайные думы и намерения. Однако ничего такого не оказалось. Нойоны рассчитывали, что, оказав помощь Алтан-хану, они могут впоследствии смело опираться на него в борьбе с найманами. На татар, предполагали они, вместе с ними пойдет и Тэмуджин. Передавая все это князю Юнь-цзы и Хушаху, Хо с особым нажимом несколько раз произнес «хан Тэмуджин», стараясь, чтобы сановники обратили благосклонное свое внимание на это имя. Однако гладкое, сытое лицо Юнь-цзы скривилось в пренебрежительной усмешке.
— Какой он хан!
Хо стало обидно за Тэмуджина.
— Его прадед Хабул был первым ханом монголов.
— Ты становишься чрезмерно осведомленным. Откуда это тебе известно?
— Осмелюсь напомнить: я вырос в степях. Был рабом Есугей-багатура. А он отец Тэмуджина.
— И ты знаешь этого новоявленного хана? — спросил Хушаху.
— Мы были с ним дружны.
— А что, князь Юнь-цзы, это может нам пригодиться. Возьмите его с собой в поход.
Даже в самом сладостном сне Хо не снилось такое. Он разыщет Хоахчин, он увидит Оэлун-фуджин и рыжего строптивца! Не шел, а плыл по улицам Чжунду счастливый человек Хо.
От городских ворот, вжимая прохожих в стену, двигались конные стражники. Тяжелая поступь коней, бряцание оружия заполнили щель улицы. За стражниками голые по пояс, со связанными за спиной руками шли бунтовщики или разбойники. Замыкали шествие снова конные стражники с короткими копьями, нацеленными в голые спины.
Хо стало зябко, словно острие копья уперлось в его поясницу. Он вспомнил, что его поджидает Елюй Люгэ, и прибавил шагу. Потомок императоров Ляо по-прежнему хотел знать все, что делается на севере. Платил за сведения щедро, без его денег пришлось бы худо, но каждый раз серебро и медь обжигали Хо руки, и обретенное счастье начинало казаться хрупким, ненадежным, как первый ледок на зеркале пруда.
Елюй Люгэ сидел за столиком. Встретил Хо приветливо, велел сесть, налил чаю. От прозрачно-коричневого напитка поднимался пахучий пар, на дне чисто-белой фарфоровой чашки мерцали искорки света. Вкус чая был терпкий, вяжущий во рту.
— Ну что твои кэрэиты?
— Они пойдут на татар. И хан Тэмуджин тоже.
Елюй Люгэ с досадой опустил кулак на хрупкий столик.
— Безумцы!
— Татары — их старые враги.
— Что ты понимаешь! И у татар, и у кэрэитов один враг — божественный хуанди!
— Не говорите так, нижайше прошу вас!
— Боишься за свою жизнь? Рушатся царства, гибнут племена и народы — что жизнь человека!
— Если я умру на деревянном осле, что будет с моей женой, сыном и старым Ли Цзяном? Отпустите меня, великий господин, снимите кангу с души!
— Не бойся. Когда-нибудь ты возблагодаришь небо, что оно свело тебя со мной. Золотая империя долго не проживет. Она похожа на тигра, проглотившего ежа. Рычит, корчится, безумея от злобы, кидается то туда, то сюда, а смерть — в собственном брюхе.
— Зачем мне все это, великий господин? Маленькому человеку надо довольствоваться малым.
— Думай так, садясь за стол…
Елюй Люгэ поднялся, приоткрыл дверь во внутренние покои, кого-то позвал. К ним вышел рослый юноша. Широкие рукава его халата, отделанного по плечам и воротнику мехом, суживаясь от локтей, свисали ниже колен…
— Это Елюй Чу-цай. Мой молодой родич, очень способный к наукам. Ты будешь рассказывать все, что знаешь о степных народах. Приходи ежедневно.
— Не могу я сюда приходить ежедневно! — с отчаянием сказал Хо. — Это опасно!
— Напротив. Ты сможешь бывать здесь открыто. Императору нужны слуги, знающие язык, обычаи и нравы врагов. Таким слугой и хочет стать Елюй Чу-цай. Ты будешь его учителем.
Домой Хо шел так, будто за ним гнались. Он бы пустился бежать, если бы не опасался, что его примут за вора или преступника. Всякий раз, когда уходил от Елюй Люгэ, ему не терпелось поскорее попасть домой, сбросить с себя гнет душевной тяжести.
У ворот (недавно покрыл их свежей краской) перевел дыхание, отодвинул заложку. Солнце село, по улицам текли уже не тени, а сумерки, но во дворе было светло от цветущих персиков, вишен, абрикосов и слив. Ветви без единого листочка были облеплены розовато-белыми цветами, лепестки осыпались на землю, и она казалась припорошенной снегом. Много времени, сил отдал Хо старому саду, и буйное цветение деревьев вознаградило его труд. Из распахнутых дверей дома выглянула Цуй. Вытерев руки о передник, побежала ему навстречу. Так было всегда. Ли Цзян не раз ворчливо выговаривал ей, что женщине, ставшей матерью, не подобает вести себя так. Она обещала быть степенной, но тут же забывала об этом. Наверное, иначе она и не могла. За день накапливалось столько такого, о чем надо было поговорить с ним, — до степенности ли тут!