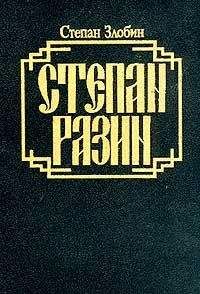Степан Злобин - Степан Разин. Книга вторая
— За порохом там к тебе будут дед Панас али Дрон, — сказал Разин. — Им пороху дашь из зелейной казны сколько спросят.
— Было б твое веленье, — безразлично ответил рыбак. Выраженье тревоги блеснуло в его глазах, но он удержался и ничего не спросил.
Уже на пороге землянки он вдруг замешкался и, нерешительно возвратясь, по-бычьи потупился и обратился к Разину:
— Не гневайся, батька! Нет веры во мне к понизовым. Прими от меня для нужды, вдруг годятся.
Он протянул два заряженных пистолета.
— Чего ты мне каркаешь, будто ворона! — со смехом сказал Степан. — Их горстка, а нас сколько будет!
… Не меньше десятка свечей горело в землянке Разина. Их пламя играло в кубках и стопах с вином, в гранях камней, украшавших платье, в широких круглых зеркалах серебряных и позолоченных блюд и в глазах казаков, сидевших вокруг столов и вдоль стен по лавкам.
Слушая гул голосов и время от времени поднимая свой кубок, чтобы стукнуться с кем-нибудь, Степан Тимофеевич ни на минуту не забывал, что ему надо быть трезвым. Он уже предвкушал победу и с нетерпением ждал, когда же начнут пьянеть гости. Он подсчитывал, сколько получится казаков, если сложить кагальницких вместе с черкасскими, и сколько людей он получит еще после раздачи хлебного жалованья из осадных запасов Черкасска. Он рисовал себе непривычный зимний поход на Волгу и размышлял, что нужно ему для того, чтобы пройти без потерь, минуя Царицын, прямо по Манычу, через морозные и метельные степи, к низовьям Волги.
Корнила Ходнев сам завел разговор о хлебе:
— Ныне бояре мудруют над нами, жмут, а казаки голодуют, когда у нас хлеба довольно.
— Не у тебя ли уж, крестный, припрятан хлебец? Пошто же ты его казакам не даешь? — спросил Разин.
— Я осадные житницы разумею, — спокойно сказал Корнила.
— Как можно, Корнила Яковлич! А вдруг на нас крымцы нагрянут!.. Да и много ли там! — воскликнул Степан, изобразив, что он сам никогда и не думал об этом хлебе…
Корнила склонился к нему через стол, заговорил, как о тайне:
— Бояре идут нас в осаду садить — стало быть, время пришло с осадных житниц сбивать замки и печати. Пора казакам покинуть разброд, заедино подняться — вот, Стенька, в чем правда! Влезут бояре на Дон — не высадить их назад!..
— Али ты в войско мое проситься вздумал? — с усмешкой, прищурясь, спросил Степан.
— Я к тебе не глумиться приехал, Разин, — раздраженно сказал Корнила. — Какое там к бесу «твое», «мое»?! Едино Великое Войско донских казаков. Позор падет на меня и тебя навеки, когда через наши раздоры придут воеводы на Дон!
— Чего же ты хочешь?
— Хочу задавить войсковых есаулов Михайлу Самаренина да Семенова Логинку — вот я чего хочу. А без тебя не осилить. Они письма пишут боярам, зовут воевод, чтобы тебя побили. А мне краше ты, чем бояре: хоть вор, а казак!
— Вот, батька крестный, спасибо за правду! — со смехом воскликнул Степан. — А пошто же ты, крестный, покинул Черкасск? Тебе бы сидеть там покрепче да мне написать приходить и ворота открыть бы. Уж я бы к тебе пришел. А ныне тебя самого-то не пустят назад, скажут: «С вором спознался!»
— Ворота отворят, Степан, — твердо пообещал Корнила. — Ведь на воротах не Логинка с Мишкой — простые казаки.
Степан усмехнулся. Его подмывало сказать, что ворота откроют нынче к утру, но он удержался.
— За чаркой такие дела не судят, крестный, — сказал он. — Мы завтра с утра на кругу потолкуем, а ныне для встречи нам пить. Покойник Минаев привез мне в гостинец медку. Ты отведай.
Он налил Корниле полную чашу, стукнулся с ним и оглядел все казачье собранье.
Узколицый Фролка пьяно перебирал струны своих гусель, сидя с полуоткрытым ртом.
«Вот так небось дураком и в Качалинском городке сидел!» — с презрением подумал о нем Разин.
Между его есаулами и черкасскими дружба явно не ладилась. Кагальницкие от черкасских держались особняком, те и другие пили и говорили только между своими.
Степан увидел Алену, ему захотелось с ней встретиться взглядом, но она, усталая, с женской заботливостью оглядывала стол и не взглянула в его сторону. «Притомилась Алеша!» — подумал о ней Степан.
Он увидел, как Корнила стукнулся чарой с Наумовым. Наумов поднял свой кубок, громко крича:
— Пью за великого атамана всего Войска Донского — Степана Тимофеича, за славу казачью, за степь, за коней, за саблю!..
Он что-то кричал и еще, но Разин уже не слушал его. Следя за взглядом Корнилы, Степан остановился глазами на суровом лице другого есаула — Федора Каторжного. Разин увидел по прямой складке его рта, что он трезв и весь налился ненавистью… Корнила потянулся к нему со своей чашей. Федор высоко поднял кубок и ударил о край Корниловой чаши.
— За дружбу казацкую, за братскую веру! — провозгласил Корнила.
— Пьем, атаман! — отозвался Федор и, глядя Корниле в лицо, широко плеснул за плечо полный кубок, так что рубиновые брызги попали Степану на руку.
Корнила, успевший выпить свою чашу, и Федор сцепились острыми взглядами, как в рукопашной схватке враги, и не могли оторваться. Злоба горела на лицах обоих.
— Не веришь мне, Федор? — прищурясь, тихо спросил Корнила.
— Не верю, Корнила! Лиса ты и есть лиса. Да стара, хоть хитра… А я, брат Корнила, лисятник, ямы на вашего брата копать искусник.
«Кремень есаул!» — радостно подумал о нем Степан.
— Ты яму другому не рой. Бывает, и сам в нее попадешь! — огрызнулся Корнила.
«Обиделся, старый пес», — сказал про себя Степан. Корнила взглянул на него. Они встретились взглядами.
— Не отдадим, крестник, Дона боярам? — пьяно спросил Корнила.
— Не отдадим, батька крестный! — подражая ему, так же пьяно ответил Степан и тут же заметил, что, если бы он и не хотел подражать, сам язык его ворочался тяжело.
«Неужто я пьяный?! — мелькнула мысль. — Нельзя мне пьянеть!»
— Как на Украине, бояре хотят у нас насадить воевод, а старшинство купить чинами боярскими, как гетмана Брюховецкого, — говорил соседям Корнилин приятель Демьян Ведерников.
— А что ж, «боярин Корнила Яковлич Ходнев» — то не худо бы слышалось уху! — с насмешкой крикнул Степан. — Да ты, Демьян, зря не бреши: польстились бы вы на боярство — ан не дадут его вам. Серчают бояре, что вы вора Стеньку не задавили.
— Писали про то из Москвы, — дружелюбно признался Корнила. — Выпьем, Степан, чтобы не было никогда на Дону бояр! — громко воскликнул он, снова протягивая к Разину свою чашу.
«Здоров, старый черт! Пьет, пьет, а не свалится!» — подумал Степан. Он поднял свой кубок, и вдруг ему показалось, что свечи горят тускло, что всю землянку заволокло туманом, а уши его залепила смола…
— Не гневайся, крестный, больше не пью, — с трудом ворочая языком, произнес Степан, и какая-то злая тревога толкнула его сердце. — Фролка, сыграй-ка песню, потешь гостей! — громко выкрикнул он, чтобы отогнать от себя внезапный прилив беспокойства.
— Потешь-ка, Фрол Тимофеич! Сыграй, потешь! — загудели гости, и Фролка рванул струны…
Эх, туманы, вы мои туманушки,
Вы, туманы мои непроглядные,
Как печаль-тоска ненавистные… —
запел Фрол. Голос его был нежный, дрожащий, словно струна, и все приутихли и смолкли, слушая.
Хмель кружил Разину голову. Песня Фролки брала за сердце. Она лилась высокая и протяжная, просясь на широкий простор. Ей было тесно в душной землянке, в табачном дыму, в копоти и хмельном чаду. «Выйти сейчас, вскочить на седло да и гнать по степи, вдогонку за дедом Панасом да Дроном… А тут будут сидеть, пировать, — небось с пьяных глаз не почуют, что я ускакал. А Алене велеть сказать: „Притомился Степан, рана на голове заныла, и лежит“.
— Ваня, как там Каурка? — негромко спросил Разин конюшенного казака, сидевшего невдалеке за столом. Конюшенный знал уже, что атаман собирается ночью скакать за ушедшим войском и самому ему тоже велел быть готовым в путь.
— Кормится, батька! Добрый конек в наследство тебе остался. Ты не тревожься — все справно у нас на конюшне, — намекнул конюшенный, но, заметив строгое движение бровей атамана, замолк.
Ты взойди, взойди, солнце красное,
Над горой взойди над высокою.
Над дубравушкой над зеленою,
Над урочищем добра молодца…
Песню хотелось слушать и слушать; она таила в себе безысходную грусть, но от грусти этой делалось сладко.
— Врешь, Фрол! Не ту поешь! Дунь плясовую! — заглушая пение, хрипло крикнул Корнила.
Фрол замолк, поднял опущенные ресницы, весело и хитро усмехнулся и лихо щипнул струну, которая взвизгнула неожиданно тонко, по-поросячьи, всех рассмешив даже самым звуком.
Ходил казак за горами,
За ним девушки стадами,
Молодцы табунами…
Дрогнул дощатый пол землянки. Петруха Ходнев бросил под ноги шапку и первым пошел в пляс…
— Ходи-и-и! — тонко, заливисто грянул Юрко Писаренок.