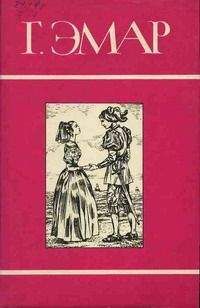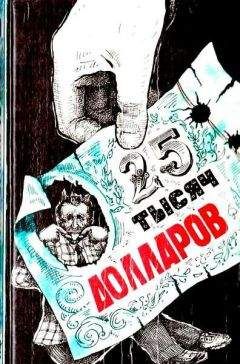Аркадий Савеличев - А. Разумовский: Ночной император
Предвкушая наслаждение, Алексей вкусил в столовой дообеденной закуски. Кроме привычных балычков и окорочков, ему, не успеет переодеться с дороги, подадут и свежие огурчики, и свежую зелень, и садовую землянику. Он гордился хорошо устроенными, отапливаемыми теплицами; от печей чугунные трубы протянуты, трещи не трещи мороз — ему не одолеть березовый жар.
Сейчас морозов еще не было, но в баню Алексей пошел в меховом халате. В сопровождении двух банщиков и управителя, который заговорщически вопросил:
— Баньку-то с усладой или как, ваше сиятельство?..
— А что, будет услада?
— Как не быть, ваше сиятельство! Уже на тройке везут.
— Не дурна?
— Сами изволите оценить, ваше сиятельство…
Ну, новый управляющий — славный малый. Может, что и прилипает к его рукам — как без того? — но зато уж и речь прилипчива. Хочешь не хочешь, а затеям его покоряйся.
После первого пара он вышел охладиться на крытую галерею. Со ската ее хлестала вода. Внизу бесновалась река, сосны в нагорье шумели. Волк за рекой взвыл — ну, погоди, серый, как ударит мороз, не так еще взвоешь! В благодушном настроении даже песня какая-то поблазнилась. Женского роду не так уж и много, при мужском-то хозяине, было в Гостилицах, ну, там прачки, смотрительницы многочисленных зал, горниц, спален да и просто уборщицы. На кухне да в камер-лакеях — мужики, само собой. Но песня-то?.. Вроде женская и вроде незнакомая? Опять управитель кого-нибудь выгнал да кого-нибудь из поместья в услужение взял? Все местные души, числа которых граф Алексей Разумовский и не помнил. На то и управитель, чтобы строгий счет держать.
Прозябнув на ветру, Алексей с удовольствием нырнул в банную теплынь.
При трех-то всего свечах он не сразу заметил четвертую, блеснувшую на среднем полке. Банщики где-то замешкались — да и мог ли так светить рыжий, обросший шерстью банщик? Нет, здесь как солнышко воссияло. Почувствовав, что она, видно, услада-то, Алексей присел возле дрогнувшего лучика и погрел правую ладонь, потом и левую. Право ведь, обжигало!
— Как звать тебя, свет мой ясный?
— Линда, — сверкнули глазенки чистой балтийской воды.
— Значит, из местных?
— Здешняя я. Из вашего поместья.
— Вот как! Знаешь кто я?..
— Знаю, ваше сиятельство. Граф Алексей Григорьевич. Наш барин.
— Да ты рассудительна! И говоришь хорошо по-русски. Кто учит?
— Матушка моя. Она где-то у вас тут служит. То ли на огородах, то ли при скотницах.
— Ну ладно, Линда… Не молода ты, чтоб со старыми графьями вожжаться? Да и вожжалась ли когда?..
— Нет, ваше сиятельство. Мать надоумила. Сама-то бы я не посмела. А так ничего, я уже созрелая. Мать это говорит, самой-то откуда мне знать.
Алексей смотрел в ее, и при слабых свечах отсвечивающие, глазенки, что-то стесняясь хозяйскую — барскую! — власть выказывать. Да ведь дрожала правая ладонь, сползавшая с детского животика все ниже и ниже; дрожала и левая, поднимаясь не к таким уж и детским грудкам. Дело вроде бы обычное: мать пристраивает дочурку в графские чисты прислужницы, чтобы не торчать ей на огородах иль сенокосе. Да только чего же руки-то дрожат, которые не драгивали и под взглядом императрицы?
— Так уж, видно, Линда… Не бойся, не обижу тебя. Сама поцелуешь?
Она потянулась к нему ручонками, он помог ей дотянуться, сам к ожиревшей груди прижал.
— Проси что хочешь, птичка моя!.. — задыхался он при ее неумелых конечно же первых в жизни ласках. — Ведь Линда — птица по-вашему?
Она не Отвечала, она ведь думала только о том, как бы не осердить графа… Едва ли прорвалось в ней что-то женское. Только вскрикнула пугливо и обреченно, истинно как подстреленная птица, а потом успокоилась — мертвая ли, живая ли, но покорная. Сам не зная почему, и Алексей не терзал ни тело, ни душу её. Как бы необходимое дело делал, и только. Он грудки ее, налившиеся, но женской силой еще не обожженные, как поп, отпускающий грехи, поцеловал и повинился:
— Жизнь уж, видно, такова, Линда. Ты не сердись на меня. Я потом тебя еще позову, а сейчас-то ступай. Где одежонка твоя?
— А матушка там с ней… — махнула она ладошкой за банные стены. — Матушка оденет. Мне что, уходить?..
Такая доверчивая покорность была в ее голосе, что он по-отцовски в разрумянившуюся щечку поцеловал.
— И рад бы тебя еще здесь подержать, да жалко. Скажи управляющему, чтоб тебя хорошо покормили.
— Ага, матушка скажет… Сама-то я не посмею. Прощайте, ваше сиятельство, — стыдливо поднялась она с полка, засеменила быстренько к выходу.
— До свидания, солнышко… — долго смотрел Алексей ей вслед, в плотно закрывшуюся дверь, пока истинные банщики не заявились волосатой, подвыпившей парой.
Алексей встретил их сердито:
— Не переусердствовали?
На два голоса заоправдывались:
— Нет, ваше сиятельство!
— Ей-богу, маленько!..
— Доканчивайте свое дело. Что-то не очень тянет сегодня на пар…
Банщики заработали в два веника, обычно лишь гоняя по телу березовый жар, а сегодня, не в пример обычаю, крепковато.
— Да вы чего меня — порете? — вскричал Алексей. — Окатите водой да позовите камер-лакея.
Настроение не улучшилось и после того, как его вытерли насухо и, застегнув меховой халат, отвели во дворец, на второй этаж, к камину. Там были и спальня, и столовая.
Но с чего-то и аппетит пропал. Тревожно поглядывал камер-лакей, с тревогой взирал от дверей столовой, не выходя из кухни, и молчаливый француз, плохо понимавший эти русские перепады настроения.
Утешаться приходилось разве тем, что граф все-таки не обругал, обед хоть и без обычного довольного покрякиванья, но довершил исправно и тотчас удалился в гостиную, к камину.
Спать Алексею не хотелось. Гостиная была слишком велика для одного человека. Слуги незаметно и тихо вышли. Алексей кивнул камер-лакею — единственной живой душе:
— Выпей и ты.
Камер-лакей застеснялся.
— Ничего, ничего, одному-то мне скучно. Жаль, никого я сегодня в гости не пригласил!
Камер-лакей принял из собственных графских рук бокал, а выпив, решил сказать:
— Там одна из наших огородниц давно домогается лицезреть вашего сиятельства…
— Ну и ученость у тебя! — разжал он в улыбке с чего-то посуровевшие губы. — Зови. Самому-то нечего тут торчать.
Вошла женщина, явно чухонского вида, но чисто одетая и неробкая.
Поклонилась низко, но ничего не говорила.
Где-то он видел ее… Мелькают тут разные работницы, но управляющие, хоть прежний, хоть этот, строго-настрого запрещают им попадаться на глаза. Алексей если и встречал их, то не мог отличить одну от другой.
— Где работаешь?
— При огурцах я, ваше сиятельство, — довольно смело ответила. — Хороши ли мои огурчики? — кивнула на стол, где много всего было нарезано.
— Хороши, хороши… Кто ты?
— Айна я. Айна, ваше сиятельство.
— Ты вроде как попадалась когда-то мне на глаза.
— Да и не только на ваши сиятельные глазыньки… на грудь тоже падала…
— Что мелешь, старая? — грохнул стулом, вставая, Алексей.
Она ничего не отвечала.
— Линда-то твоя, что ли, дочка?
— Моя, ваше сиятельство, — смело посмотрела ему в глаза не такая уж и старая чухонка. — Но она и ваша дочка, граф…
Так с ним никто из прислуги не разговаривал.
— Я в полном уме, ваше сиятельство. А надо ли мне что… Да ничего. Единое только: дочку-то свою не обижай.
Алексей зверски смотрел на нее, но понимал, что не врет. Нет, лицо двадцатилетней давности не проступало, знакомого голоса не слышалось, но сомнения не оставалось — она. Давним чухонским лешийком занесенная в баньку к новому управителю…
— В таком случае, как же ты решилась дочку-то подсунуть мне?! Запорю!
— Запорите, граф. Воля ваша. Дочку только поберегите. Богом прошу!
Он налил вина, подошел, протянул ей бокал, в глаза настойчиво глянул. Но что там мог увидеть? Если это и была та самая чухонка, если так судьба посмеялась над ним… в чем вина его?!
— Дочка знала, к кому ты ее посылаешь?
— Нет, граф. Она скорей бы в реку кинулась…
— Так это ты мстила мне? Через столько-то лет?..
— Да, граф. Все без малого двадцать лет вы обо мне ни разу не подумали. Хоть рядом я всегда была, из-за кустиков часто поглядывала. Смекните, с чего я из чистых горничных в огородницы отпросилась? Беременная была, перед государыней срамить вас не хотела. А так… со мной все мое и ушло на дальние огороды… Налейте еще, граф, — протянула она пустой бокал.
Алексей налил, сел и обхватил голову руками…
— Так я еще раз спрашиваю: что тебе надобно? — вскинулся наконец решительными глазами.
— Да только счастья дочкиного, — поставила она бокал на стол.
— Какое же у нее теперь может быть счастье, коль родитель — если в самом деле так! — как козу непотребную изнасиловал!