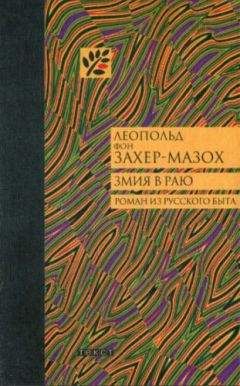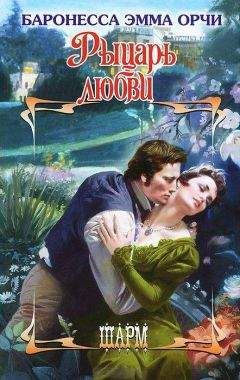Альберт Брахфогель - Рыцарь Леопольд фон Ведель
— Простите, ваше величество! Прочтите, что найдено в доме Парра и в чем он добровольно сознался.
Он подошел к королеве и указал ей на несколько подчеркнутых в бумаге строчек.
— Арундель, старший сын лорда Норфолка, тоже замешан и… Так пусть же действует только закон! Но нет, не теперь! Молчите под страхом смертной казни! Пусть он еще больше запутается в собственных сетях!
— Не угодно ли убедиться в справедливости дела относительно испанского посольства? — спросил Леопольд.
— Да, если это правда.
— Во время турнира я стоял перед вами подле Арунделя, тихонько потребовавшего от меня моего имени, которое я и объявил ему. «Клянусь золотой медалью Григория, которому вы изменили, вы негодяй!» — сказал Арундель.
— Заговор, относительно которого Вильгельм Оранский предостерегал вас, я считаю теперь действительно существующим и всеми способами постараюсь раскрыть его! — начал Уолсинхэм. — Позвольте мне действовать ради вас и Вильгельма Оранского.
— Ради Англии! Берегитесь, однако, сэр Френсис, в Тауэре еще много места для изменников!
— Прощайте, ваше величество, прощай, Анна! — сказал Леопольд. — Никогда я не увижу тебя, разве привезешь ты мне из Англии чистым мое доброе имя!
— Должна привезти! — вскричала Елизавета. — Две женщины, чтущие ваше самопожертвование, хранят в сердце воспоминание о вас и лучшим убором своим считают подаренные вами драгоценности. Дух Вильгельма Оранского выведет вас к свету!
Девять дней спустя Леопольд уехал из Лондона, ни разу не повидавшись с Анной.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Больные
В 1592 году Карлсбад не был еще городом, как в наше время, а деревней. Хотя источник был уже обустроен, но его окружало только обширное дощатое здание, к которому непосредственно примыкало тридцать купален. Напротив источника, на площади находилась гостиница, в трех верхних этажах которой помещались комнаты для приезжающих, а в нижнем — ряд великолепных покоев, где по вечерам или в дурную погоду собирались посетители минеральных вод.
В этом году в Карлсбад со всей Германии собралось около пятисот особ обоего пола, преимущественно иностранцев. Понятно, что Карлсбад посещался австрийцами и, в особенности, католическими священниками. В числе господ этих особенное внимание возбуждали два офицера, прибывшие прямо из Франции, в которой парижский мир и всемогущество Генриха IV положили конец страшным религиозным войнам и, как казалось, навсегда уничтожили пагубное влияние римской курии и доме Гизов. Так как господа эти прибыли прямо из Франции, то, само собой разумеется, они французы и, вероятно, не понимали по-немецки. Старший из них был небольшого роста, коренастый и несколько склонный к полноте человек, черные волосы и бородка его были с проседью. Он страдал подагрой. Его младший товарищ, прекрасный, сильный мужчина, — имел светлые волосы и приятное лицо, ревматизм засел у него в правой ноге, кроме того, имел он рану на левой руке. Слуги их говорили по-немецки, так же, как и мавр младшего из офицеров, но вообще так мало выказывали склонности к разговору о своих господах, что с величайшим трудом добились от них сведений, что старший из иностранцев был маркиз де Крешен, а младший — кавалер де Кандебек.
Однажды в теплый осенний день господа де Крешен и де Кандебек отправились на прогулку в сопровождении двух камердинеров своих и мавра. Оставив за собой заведение минеральных вод и подходя к одной из уединенных долин, они прервали наконец молчание, и если бы кто-нибудь подслушал их, тот не только изумился бы их свободной немецкой речи, но и их наречию, так как старший из офицеров говорил с несомненно саксонским акцентом, а младший — с северо-германским.
— Послушайте, рыцарь, я начинаю терять охоту разыгрывать этот проклятый французский маскарад и прикидываться монахом там, где другие находят отдых и развлечение!
— Охотно верю, любезный полковник. Давно уже я подозреваю, что вы хотите нарушить наш уговор. Но разве причины, побудившие нас скрывать свою национальность, уже не существуют? Австрия — это самое лютое гнездо иезуитов, и мерзавцы повсюду вынюхивают здесь. Как французов, нас, безусловно, считают католиками, но немецкие офицеры, прибывшие прямо с гугенотской войны, должны быть кальвинистами. Не успеете вы открыть рот, как тотчас же догадаются, что вы служили под начальством Христиана Ангальтского, а это могло бы очень неприятным образом положить конец вашему лечению. Что у меня есть особые причины соблюдать осторожность, это вам очень хорошо известно.
— Да, у попов вы на дурном счету и, наверное, они не слишком-то полюбили бы вас, узнав, что при Кандебеке вы практически решили исход войны против Генриха Гиза. Но французы ли мы, немцы ли, нас все равно подозревают.
— Так, по-вашему, лучше напрямик сказать им, что вы не маркиз де Крешен, а протестанский барон фон Крехинген, приведший Генриху Наваррскому тысячу всадников? Мрачное сборище, взбешенное падением папского дела во Франции и Нидерландах, не даст вам ни минуты покоя, узнав, что вы сторонник протестантов. Разве семейству графа Экардштейна не досаждают всевозможными способами потому только, что они протестанты?
— Черт бы побрал и лечение, и сам Карлсбад! Что касается графини Экардштейн, старшей, с темно-русыми волосами, — то вы правы. Она поглядывает на меня с такой меланхоличной улыбкой, точно готова капитулировать.
— Вы уже обстреляли ее?
— Сказать по правде, я бросил в цитадель несколько зажигательных писем.
— Яснее, вы писали ей любовные письма, воспламенившие ее тридцатилетнюю любовь? Она вам отвечала?
— Да, вроде этого… Не хочу я разыгрывать роль француза, хоть пусть накинутся на меня все папы! По крайней мере она узнает, что я немец. И неужели сидеть мне одиноко в замке Крехинген?
— Следовательно, вы приняли благоразумное решение жениться на старшей графине Экардштейн?
— Само собой разумеется! Молодая жена — недурное средство против ломоты. Да и вы, любезный Ведель, должны бы сделать то же самое.
— Нет, не гожусь я для брачной жизни, Крехинген, почему — это вам хорошо известно. Сбросьте французскую маску и женитесь себе с Богом, но ради дружбы нашей не выдавайте моего имени и позвольте мне быть кавалером де Кандебек.
Крехинген протянул ему руку.
— Да, Леопольд, блестящее дело при Кандебеке способно усладить даже самый печальный закат жизни. Но если я желаю еще житейских радостей, то для вас будущность открыта и подавно. Однако воротимся, через час солнце скроется за горами, и в долинах потянет холодком.
— Нет, нет. Я подальше пойду в горы.
— К Гейцингсфельзену, вашему любимому месту? Не дурачьтесь. Еще простудитесь.
— Ничего! Итак, дайте честное слово, что вы будете молчать! Все, что угодно говорите, только не объявляйте моего имени.
— Можете положиться на меня, друг. Достаточно вашего желания. Когда вы воротитесь?
— Через три часа, теперь всего четыре.
Они расстались. Полковник поковылял назад, а его белокурый товарищ, в сопровождении слуги и мавра, по горной тропинке отправился к цели своей прогулки. Он шел, мрачно понурив голову, только сухие листья шуршали под его ногами. Тропинка вела через гребень горы на карлсбадскую дорогу. Отправившись по ней, кавалер де Кандебек спустился в скалистую котловину, где, пенясь, стремился Эгер, берега которого были обставлены какими-то причудливыми, похожими на человеческие фигуры, скалами, бывавшим в Карлсбаде известны эти каменные колонны.
При входе в долину, кавалер обратился к своим слугам:
— Останьтесь здесь. Я посижу немножко на старом месте — в последний раз. Через несколько дней мы уедем.
Он взял у мавра книгу, в которой торчал карандаш, и, поднявшись по реке до скамейки, откуда как раз видны были странные скалы, открыл альбом. В альбоме неумелой рукой был набросан образ скалистого ландшафта, который кавалер хотел докончить сегодня. Он начал рисовать, а мысли его между тем неслись назад, к полковнику, его другу.
— Счастливый человек! Несмотря на подагру и пятьдесят три года, поздняя любовь, подобно вечерней заре, проникла в его сердце! А я? Нет уже ни Бенигны, ни племянника Буссо, я умру одинокий, следовательно, представителем знатного рода Веделей остается только Курт Каспар и его сын. Все вокруг меня пустеет, вянет и засыхает! Хоть бы на одно мгновение перенестись в Англию и взглянуть, жива ли она? Вероятно, и она тоже умерла! Порою мне кажется, что это невозможно. Она жива, она повсюду ищет меня, она возвратится в это старое, истерзанное сердце!
В то время, как наш приятель предавался воспоминаниям былого и с жестоким удовольствием растравлял раны своего сердца, слуги его стояли у входа в долину. Вдруг они услышали позади себя шум едущего экипажа и топот лошадей.