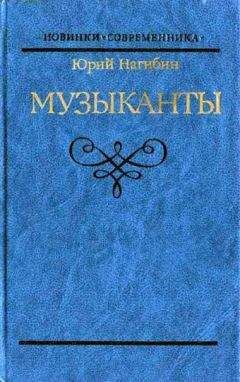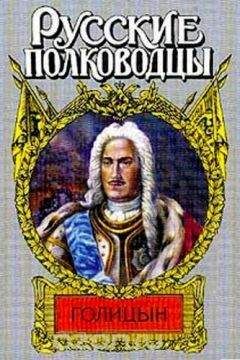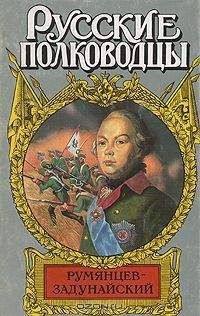Наталья Павлищева - Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник)
– Аглая растопит…
– Аглае не можно. У нее молодшее чадо в огневице. Пусти!
– Не пущу! – игриво заупрямился Василько.
– Пусти, лиходей! – с притворной строгостью сказала Янка. – Слышишь, как трезвонят. Как бы тот звон не к заутрене, а к обедне.
Со двора послышались громкие и встревоженные голоса, внизу хлопнули дверью. Василько разжал объятия – Янка по-кошачьи проворно и бесшумно покинула конник и принялась одеваться. Она едва успела облачиться в верхницу и накинуть на голову повой, как в горницу вбежал Пургас.
Он выглядел взволнованным: в расширенных очах тревога, дыхание частое, судорожное. Но, увидев одевающуюся Янку и Василька, возлежавшего на постели, застыл на месте, и его лицо выразило такое страдание, что Васильку стало стыдно и жалко холопа. Он почувствовал себя татем, который сотворил покражу и был тут же пойман с поличным. К его удивлению, Янка не смутилась. Она вела себя так, как будто не заметила переживания Пургаса. Приветливо поздоровалась с ним и сказала:
– Чай, заждались меня? А я у господина была, – Янка говорила так просто и без тени смущения, что Василько поразился; так же спокойно она поклонилась Васильку и спросила: – Дозволь идти в поварню, господин?
– Иди, – произнес Василько и, глядя вслед удаляющейся Янке, подумал: «Откуда такое спокойствие? То ли впрямь она не видит греха в том, что было между нами ночью, то ли умеет прятать стыд? Так и мне поступать нужно». Он нахмурил брови и недовольно спросил Пургаса:
– Что тебе?
– Беда! – выпалил Пургас; холоп, будто испытывая удушье, закатил глаза, глубоко вздохнул и выкрикнул: – Воробей со многими людьми наехал по твою голову!
В этих словах Василько ощутил укор и удовлетворение тем, что именно по его голову наехал Воробей. Он хотел ударить Пургаса, но звуки, продолжавшие проникать в горницу со двора, сорвали его с конника и погнали к волоковому окошку.
Василько рванул в сторону задвижку оконца. В разнеженное лицо ударил студеный порыв ветра и разметал волосы, вспучил на спине сорочку и вызвал озноб. Внизу, на переднем дворе, метались какие-то люди.
– Что же ты молчал, пес? – Василько закричал на холопа. Он с силой закрыл оконце и с помощью Пургаса принялся одеваться.
Василько никак не мог унять бившую его дрожь. Удручал не столько наезд Воробья, сколько осознание, что недруг напал в такой значимый для него день и что его Янке могут причинить лихо. Поэтому Василько не мог тотчас придумать, как сподручней оборониться.
– Доспехи, меч!.. – крикнул он холопу.
Пургас открыл крышку ларя и после шумного сопения и пыхтения извлек из него кольчугу. По мере того как Василько облачался в брони, им овладела привычная на ратях уверенность в своей силе и удаче. Узнав от Пургаса, что кроме челяди на дворе находятся четверо крестьян и чернец, Василько совсем успокоился. Он даже не стал надевать шелом, поручи и поножи, посчитав, что окажет тогда много чести Воробью.
Василько вышел из горницы кованый, грозный, неуязвимый. Половицы под ногами прогибались и поскрипывали более обычного, эхо от шагов гулко разносилось по клети. Он не обращал внимания ни на эхо, ни на скрип половиц, но все помышлял, как бы ему и двор защитить, и людей сохранить в целости.
Нужно было за короткий срок сделать многое. Аглаю и ее чад согнать в поварню, наказать Пургасу, чтобы вышел на сени и оттуда учинил стрельбу из лука, Павше – оседлать Буя и вместе с чернецом подпереть ворота санями, крестьянам – вывести полон из подклета и посадить на снег, перед крыльцом.
Глава 32
Он вышел на крыльцо и увидел толпящихся перед хоромами крестьян. Их вид озадачил Василька. Он уловил страх и сожаление о том, что они оказались в такой недобрый час на горе. Особенно насторожил брошенный исподлобья тяжелый укоряющий взгляд Дрона.
Крестьяне попятились от крыльца. Василько тоскливо помыслил: «Выдадут Воробью!» В ворота громко ударили чем-то тяжелым, тут же из-за тына послышался властный и гневный окрик:
– Открывай ворота! Иначе весь тын разнесем!
Василько, стараясь казаться спокойным, медленно сошел с крыльца, неожиданно для всех нагнулся, схватил пригоршню снега и стал натирать лицо. Внезапно повернулся, ровным, почти равнодушным тоном обратился к находившемуся на крыльце Пургасу:
– Что ты встал как вкопанный? Выводи полоняников из подклета, да перед крыльцом их на колени!
Он несколько раз провел рукой по влажному побагровевшему лицу, смахивая налипшую на брови, усы и бороду снежную зернь с таким видом, словно то, что он сейчас делал, занимало его более, чем наезд Воробья.
В ворота ударили в другой раз. Створы заскрипели, подались вовнутрь – приворотная жердь задергалась, заколебалась, но не обломилась.
– Задумал Воробей нас нечаянно взять, а мы ему не дадимся! – задорно обратился Василько к крестьянам, сгрудившимся в несколько шагах от него; в ворота опять сильно ударили, и Василько, поморщившись и помрачнев, спросил:
– Вы что стоите? Думаете, что Воробей не тронет вас? Думаете, что он не ведает, как вы на братчине его людей сладко потчевали? – и уже другим, властным, не терпящим возражения голосом стал указывать, кому что делать и где находиться: – Федор, живо седлай Буя! А ты, Копыто, вместе с Волком возьмите сани и поставьте их вплотную к воротам! Что смотрите? Сани в конюшне! Где Павша?.. Спит?.. Пьян?!. Иди-ка, добрый молодец, – он показал пальцем на Евсейку, – к Павше, в клеть, да разбуди его. А Аглае скажи, чтобы бежала с чадами в поварню… Что стоишь, Копыто? Али головы своей не жаль? Берегись: Воробей давно на нее зарится. А ну, бегом в конюшню!.. Карп, Карп, зачем к замету жмешься? Бери топор и стереги полон. Что очами захлопал? Топор тебе Федор даст… А ты, Дрон, не мешайся под ногами! Встал посредине двора, словно бык. Коли не желаешь ратиться, прочь со двора!
– Нечто я доброхот Воробья? Заробел, – отозвался Дрон.
– Заробел, иди в поварню, к женкам! – не скрывал раздражения Василько.
В очередной раз в ворота ударили, они вновь задрожали, заскрипели, но более сильно и протяжно, чем прежде.
– А вот и вы, голубчики! – воскликнул Василько, увидев полоняников, которых Пургас выводил из подклета. – Карп, сажай их на колени! Сюда!.. А если будут озорничать, поведай мне. Я им! – Он резко взмахнул правой рукой и, обратившись к Пургасу, продолжил: – Ты, Пургас, оставь полон, бегом на сени да стреляй оттуда по ворогам!.. Что головой завертел? Не помнишь, где лук? А кто помнить должен?.. Ты же его брал, когда в последний раз на зверя ходили!
Ворота продолжали содрогаться от частых ударов. Казалось, что скреплявшая их створы затворная жердь вот-вот затрещит, переломится и в образовавшуюся, быстро расширяющуюся щель устремится толпа, изрытая брань, насилие и погибель.
Из-за тына, заставив пригибаться непривычных до рати крестьян, просвистело несколько стрел. Они с глухим стуком впивались в волнистую темно-серую стену хором. Василько поспешил к воротам. Нужно было заговорить Воробья, дабы получше изготовиться.
Мимо него, охая и причитая, пробежала Аглая, прижимая к груди завернутую с головой в кожух больную дочь. Выпроставшиеся из-под кожуха тонкие и босые ножки ребенка как-то пугающе безжизненно висели и покачивались. За Аглаей, словно утята за уткой, бежали другие чада.
Бежавший последним мальчик с пухлыми, выпачканными сажей щеками поскользнулся и упал ничком у ног Василька. Он поднял голову, и на его лице отразились ужас и боль. Щеки его сделались шире и плотнее, нижняя губа опустилась и растянулась, мальчик горько заплакал.
Этот плач резанул по сердцу Василька. Он почувствовал жалость к мальчику и ощутил, что отвечает сейчас за каждую крестьянскую и холопью жизнь перед Богом ли, перед людьми ли – все едино. Василько поднял малыша, подтолкнул его в спину и некоторое время умиленно наблюдал за бежавшим и продолжавшим всхлипывать чадом.
Подойдя к воротам, Василько стал разглядывать притворную жердь. В щель между воротами и землей метнули сулицу. Сулица юркнула темной проворной змейкой, чиркнула о сапог и зарылась в снег. Василько вздрогнул и попятился. Он подумал, что крестьяне, заметя его испуг, могут передаться Воробью, и обернулся.
Подле сидевших на снегу перед крыльцом, спиной к воротам, полоняников стоял Карп. Он, задрав голову, наблюдал за пролетавшими над ним стрелами. Полоняники были по-прежнему наги, кроме Мирослава, и повязаны. Они не двигались и выглядели понурыми. Эта тупая покорность заставила Василька вспомнить рассказы матери о кровавых человеческих жертвах злым деревянным богам.
Он подумал, что не заметил старосту, и скорее не слухом, а всем телом почувствовал, что находившиеся подле ворот сани заскользили по снегу. Василько посмотрел в ту сторону и увидел Дрона, который вел за узды лошаденку к крыльцу. «На кой ляд ты оказался на дворе!» – подосадовал мысленно он, глядя в широкую и угловатую спину Дрона, и тут же подивился наступившей тишине.