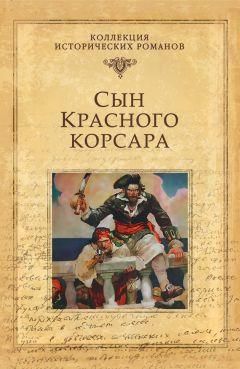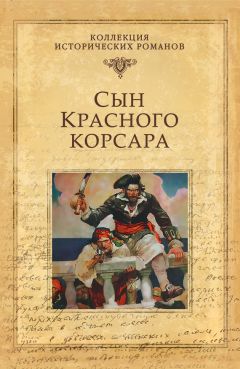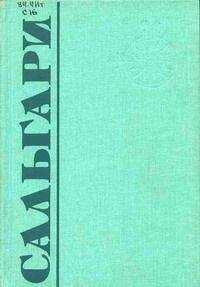А. Сахаров (редактор) - Александр I
А тот вдруг медленно-медленно приоткрыл один глаз, как будто исподтишка подмигивая, и посмотрел опять не в глаза, а в брови.
– А что, князь, давно ли вы членом тайного общества?
– О каком тайном обществе, ваше сиятельство, говорить изволите? – ответил Голицын с таким спокойным недоумением, что сам себе удивился; но сердце у него упало, – подумал: «Начинается!»
– Не знаете? Ну а мы всё знаем, всё знаем, и не только о вас, но и о дядюшке…
– Дядюшка – в тайном обществе! – не удержался Голицын, и хотя спохватился тотчас, но было поздно.
– Что же так удивились, если ничего не знаете? А может, и знаете что, да забыли? А?
– Если бы и знал что, ваше сиятельство, то не мог бы ничего сказать, не быв подлецом и доносчиком! – ответил Голицын, бледнея уже не от страха, а от злобы.
– Ну полно, князь, полно! Не хочешь, и не надо. Я ведь с тобой как отец говорю, тебе же добра желаючи, чтобы сделать из тебя, по уму твоему, государю человека полезного. Очки – пустое, а ты на хорошем счету: по Веронскому конгрессу помнит тебя государь вместе с графом Шуваловым, женихом Софьи Дмитриевны, и всегда отзываться изволит милостиво. Сегодня – камер-юнкер, завтра – камергер. Ни за что я, дружок, тому не поверю, что есть такой на свете камер-юнкер, который не желал бы камергером сделаться… Подумай, князь, подумай хорошенечко. Утро вечера мудренее. Да приезжай-ка в Грузино – там потолкуем. Посети старика, милости просим, я очень желаю видеть ваше сиятельство у себя в Грузинской пустыне…
«Твоим вниманием не дорожу, подлец!» – вспомнился Голицыну рылеевский стих, когда к двум протянутым пальцам Аракчеева – знак редкой милости – прикоснулся он, чувствуя, что этою ласкою хуже, чем розгою, высечен.
Приём кончился. Клейнмихель ушёл.
Аракчеев, подойдя на цыпочках, словно крадучись, к двери в первую из двух зал, которые отделяли секретарскую от кабинета государева, приотворил дверь осторожно и позвал шёпотом:
– Ефимыч? А Ефимыч?
– Здесь, ваше сиятельство! – тем же осторожным шёпотом ответил государев камердинер Мельников.
– Не звал государь?
– Никак нет.
– Никого не было?
– Никого.
Всё также крадучись, на цыпочках, прошли обе пустынные залы. Когда половица скрипнула под ногой Мельникова, Аракчеев замахал замахал на него руками. Во всех движениях его была бесшумно-шуршащая мягкость летучей мыши – ночанки.
Остановившись у двери кабинета, затаив дыхание, как будто умирающий был там, за дверью, прислушались. Сперва Мельников, потом Аракчеев наклонился привычно ловким движением к замочной скважине и приложил к ней глаз: государь сидел один, читая книгу. Переглянулись молча.
Опять вернулись в секретарскую.
– Проводи отца Фотия, чтоб никто не видал.
– Слушаю-с, ваше сиятельство!
– Князевой кареты с набережной не было?
– Не было.
– А с Эрмитажа?
– И оттуда не было. Везде люди поставлены: не пропустят.
– Смотри же: если что, сейчас доложи.
– Будьте покойны, ваше сиятельство!
– Да кучеру Илье скажи, не забудь: ежели государь на Фонтанку поедет – курьера ко мне на Литейную тотчас же.
На Фонтанку – значило к министру духовных дел князю Александру Николаевичу Голицыну.
Аракчеев вынул из кармана золотую табакерку и сунул в руку Мельникова. Тот не понял, открыл её, понюхал с таким благоговением, как будто к мощам приложился, и хотел отдать.
– Возьми, Ефимыч, на память.
– Ваше сиятельство! И так милостями осыпан… Не знаю, как за вас Бога молить! – проговорил, целуя ему руку, Мельников.
– Смотри же, братец, чтоб всё в аккурате было.
– Будьте покойны, ваше сиятельство!
Когда камердинер ушёл, Аракчеев сел в кресло у камина и вынул из портфеля письмо.
«Любезный мой отец и благодетель, батюшка, ваше сиятельство! Нет вас – нет для меня веселья и утешенья, окроме слёз: всё плачу да плачу; воображаю, мой отец, что выходите из спальни и целуете меня за сюрприз. А подумаю, что вас нет, – так слезами и зальюсь. Если вы останетесь ещё долго там один, то лучше уж прямо к вам на Литейную в тележке приеду, чем представлять вас каждую минуту с растерзанным сердцем. А у нас, батюшка, на мызе благополучно. Люди здоровы, а также скот и птицы. Только в молошнике разбил крышку фарфоровую Матюшка, и я его за то высекла; и Нефёда, и Финогена повара, по вашему, отец, приказу, также высекла хорошенечко. А Француженка и Осенняя Фаворитка отелились на прошлой неделе. В оранжерейных рамах стёкла вставили. А солёной телятины две кадушки попортились; я людям на кухню сдала. Поберегите себя, душа моя, ради Христа! В сырую погоду не выходите. На молоденьких не заглядывайся, дружок. Часто в вас сомневаюсь, зная ваш карахтер непостоянный, но всё вам прощаю, по любви моей: ежели мне вас не любить, то недостойна я и по земле ходить. Вашего сиятельства по гроб жизни своей слуга вечная, Настя. И за галстучек тоже целую».
Закрыв глаза, представил себе, как она целует его за галстук и в подбородок, в самую ямочку. Задремал: послышалась музыка ветра в эоловой арфе на одной из грузинских башен, и в этой музыке – баюкающий голос Настеньки: «Почивайте, батюшка, покойно – вашему слабому здоровью нужен покой…»
Вздрогнул, очнулся. Неровен час – пропустит Голицына.
Чтобы отогнать дремоту, принялся считать в уме, сколько нужно метёлок для грузинской мызы: в кухню господскую по 2 в неделю – 104 штуки в год; в службы людские по 5 – 260 в год; в оранжереи, конюшни, флигеля – всего 1890 в год; на 5 лет – 9450, на 25 – 47250.
Задача была слишком простая; придумал посложнее: сколько надо щебёнки для шоссейной дороги от Грузина до Чудова.
В каждой куче: в вышину – 3 аршина 7 вершков; в окружности – 6 аршин 13 вершков; по откосу – 4 аршина 9 вершков. Трудно было сосчитать в уме; взял клочок бумаги, карандашик обгрызенный и начал делать выкладки, ставя цифры как можно теснее, так, чтобы всё уместилось на одном клочке: был скуп на бумагу.
Хорошо стало, тихо, спокойно, безгорестно-безрадостно, как в вечности.
Вдруг, в самой середине выкладок, когда расчёт подходил уже к миллионам кубических вершков, приотворилась дверь из флигель-адъютантской.
– Ваше сиятельство, от его высочества, великого князя, – доложил Клейнмихель.
– Я тебе, чёртов сын, говорил: в шею гони! – произнёс Аракчеев, бросился на него, выругался нехорошим словом и поднял руку.
Клейнмихель не шелохнулся, подставляя бесчувственно-кукольное лицо своё: казалось, удар прозвучит по лицу, как по дереву.
Аракчеев опустил руку и только прибавил неистовым шёпотом:
– Вон!
Вернулся в кресло у камина; но уже не мог продолжать счёт; помешали; огорчился, почувствовал сердцебиение и расстройство нервов.
– О Бог мой, Бог мой! – тяжело вздыхал. – Минутки не дадут покоя…
Принял миндально-анисовых капель; отдохнул, успокоился и опять погрузился в выкладки.
Опять хорошо стало, тихо-тихо, безрадостно-безгорестно, как будто никогда ничего не было, нет и не будет, кроме совершенно тождественных, правильных, единообразных каменных куч, уходящих по обеим сторонам шоссейной дороги в бесконечную даль.
После свидания с Аракчеевым князь Валерьян поехал к своему приятелю, князю Сергею Петровичу Трубецкому, директору Северной Управы тайного общества, объявил ему о своём решении поступить в члены общества и через несколько дней был принят.
ГЛАВА ПЯТАЯ
«Прекрасная Юлия, вздыхая о возлюбленном своём Лиодоре, бродит кротчайшими шагами, бледная, унылая, с поникшей головой, в мрачной пустоте берёзовой рощи, где осенний Борей осыпает землю пожелтевшими листьями; картина осени вливает в состав растерзанного существа её нечто мрачнейшее, нежели самая мрачная меланхолия…»
«Лиодор и Юлия, или Награждённая постоянность – сельская повесть». Бывало, во дни императора Павла, сидя под арестом на Гатчинской гауптвахте в долгие осенние вечера, от скуки читывал Александр Павлович такие же точно романы и повести. Потом уже было не до книг; иногда целые годы ничего, кроме газетных вырезок да военных реляций, в руки не брал. Но во время последней болезни опять пристрастился к чтению.
Чем романы скучнее, глупее, стариннее, тем успокоительней, как старые детские песенки. Пожелтевшие страницы шуршат, как пожелтевшие листья осени, и осенью пахнет от них – сладостно-унылым запахом прошлого – того, что было юностью и стало стариной почти незапамятной. Двадцать пять лет, а как будто два с половиной столетия – так всё изменилось, так постарело всё – постарел он сам.
«Прошла зима, и возлюбленный Лиодор вернулся к прекрасной Юлии, отдыхая, при корне черёмух благоухающих, обоняли они весенние амбры. Кроткая луна плавала в эмальной гемисфере.
– Коль восхитителен феатр младых прелестей натуры! – восклицала Юлия, в объятиях своего Лиодора, предаваясь живейшей томности.
– О, священная природа, – ответствовал Лиодор, – токмо в храме твоём человек добродетельный может существенно блаженствовать. Хотел бы я с чувствительностью прижать весь мир к моему меланхолическому сердцу, так же как прижимаю тебя, о Юлия!..»