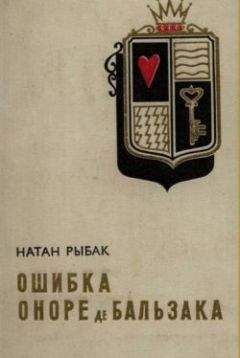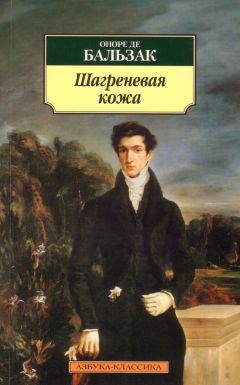Антонин Ладинский - В дни Каракаллы
Когда Корнелин подъехал к месту строительства, к нему подошел озабоченный Диодор.
— Кажется, не успеем закончить к утру.
Префект начал сквернословить.
— Поспеши! Или я прикажу воинам, чтобы они повесили тебя на первом попавшемся дереве!
Архитектор дрожащими руками вцепился в свою хламиду. Что мог сделать жалкий раб архитектор, у которого уже не было в живых покровителя!
— Будет сделано все, что в человеческих силах, — сказал он дрожащим голосом и побежал к плотникам, чтобы поторопить их с окончанием работ.
При свете факелов можно было рассмотреть возникающий среди мрака грандиозный остов сооружения из бревен и досок. Его строили при помощи подъемных машин, и как раз в эту минуту воины стали с криками поднимать наверх, чтобы водрузить на костре, статую крылатого гения с венком в руке. Свет факелов скользил по потным спинам людей, суетившихся у костра, озарял кучи бревен и стоявших на дороге спокойных волов с ярмом на широких выях.
Корнелин подъехал вплотную к работающим, и Диодор, чтобы задобрить сурового префекта, стал ему рассказывать:
— Шесть лет тому назад хоронил отца, завтра будем сжигать тело сына. Летит быстротечное время!
И помню, как умирающий Септимий Север потребовал, чтобы ему показали урну, предназначенную для его праха. Император посмотрел на нее и сказал со вздохом: «Ты будешь хранить в себе того, кому тесен был весь мир!» Великого духа был человек!
— Как подвигается работа? — спросил Корнелин, не любивший болтовни в служебное время.
— Заканчиваем второй сруб, — ответил Диодор, — к утру закончим. Можешь быть спокоен.
Корнелин вопросительно посмотрел на префекта легионных кузнецов Ферапонта. Тот подтвердил:
— Диодор не солгал. Ты вполне можешь положиться на нас. У благовоний я поставил стражу.
— Хорошо. Какова будет высота?
— Сорок локтей.
Солдаты весело кричали наверху:
— Покойнику будет тепло!
— Есть на чем поджариться, как гусю!
— С такой высоты прямая дорога на небо!
— К богам!
Чтобы не слышать насмешек над почившим императором, — а оборвать болтунов он не решался, — Корнелин повернул коня и направил его бег в ту сторону, где находился лагерь. Оттуда доносился глухой гул. Очевидно, воины покинули шатры и шумели на легионном форуме.
Трибун поскакал в Эдессу.
Ждали прибытия Юлии Домны. Но труп разлагался. Не могло быть и речи о перевезении праха в Антиохию, где ритуал императорского погребения возможно было бы обставить с большей пышностью и где удалось бы найти более опытных бальзамировщиков. Впрочем, мало кто волновался по этому поводу. Все, от Макрина до последнего центуриона, хотели поскорее покончить с погребальной церемонией, чтобы заняться текущими делами, в надежде, что теперь жизнь на земле не будет такой беспокойной. Наконец-то погасли глаза, таившие в себе человеконенавистничество.
Император Марк Аврелий Антонин, которого называли в лагерях Каракалла, почерневший и страшный, несмотря на положенные на лицо белила и румяна — в спешке их взяли для такой надобности у какой-то блудницы, — в золотом лавровом венке, полуприкрытый пурпуром палудамента, покоился на смертном ложе, в сиянии высоких светильников, под колоннами северовской базилики, где в Эдессе происходят заседания трибунала. Около ложа стояли четыре бронзовые курильницы на изогнутых львиных лапах, но даже дым благовоний не мог убить запаха тления. В плывущих под потолком слоистых волнах фимиама поблескивала позолоченная статуя императора Септимия Севера, посвященная эдесцами гению великого африканца. Император стоял в позе оратора, произносящего речь перед легионами после победы над парфянами, в кованом панцире. В протянутой руке он держал свиток. На другую перекинулась пола воинского плаща. При свете светильников можно было даже рассмотреть олимпийскую улыбку и завитки раздвоенной бороды.
Осмотрев работы по возведению погребального костра, ибо Вергилиан все хотел видеть и знать, рассуждая, что именно теперь настало время написать книгу об императоре, мы поспешили в город, чтобы побывать в базилике.
К ней вели ступеньки высокой лестницы, на которых сидели и стояли верные до гроба скифы, несшие у тела императора последнюю стражу. Где-то поблизости тревожно ржали их кони, может быть, чувствовавшие близость трупа.
Скифы мрачно смотрели на посетителей, ревниво охраняя покой своего любимца. Но, рассмотрев пурпуровую полосу на тунике Вергилиана, они не препятствовали ему подняться к смертному одру. Мы очутились в длинном зале, в глубине которого блестели светильники, и направились на их сияние. Два каких-то человека склонились над ложем и, откинув покрывало, смотрели на искаженные смертью черты покойного. Это были Дион Кассий и Корнелин.
Когда мы приблизились, они повернули головы в нашу сторону и Корнелин выпрямился, а Дион Кассий так и остался склоненным над трупом и с заложенными за спину руками.
Мы подошли на кончиках пальцев к умершему.
— Германский, Парфянский, Гетийский, Счастливый, — прошептал Дион.
— Германский, Парфянский, Гетийский, Счастливый, — тоже шепотом повторил титулы Корнелин.
— Так кончилась эта ничтожная жизнь! — продолжал Дион, покачивая головой и в последний раз вглядываясь в черты императора, как бы для того, чтобы сохранить их в памяти. Для меня не было тайной, что историк недолюбливал Каракаллу как одного из тех, кто унизил сенат и лишил его прежнего влияния на ход государственных дел. Теперь он имел возможность высказать свое откровенное мнение.
Корнелин молчал. Мы стояли некоторое время у ложа.
Вергилиан прижал к лицу надушенный платок.
— Какое зловоние!
Мы спустились по ступенькам, на которых все так же сидели безмолвные скифы, и когда хотели разойтись в разные стороны, то до нашего слуха донеслись громоподобные раскаты львиного рева.
— Звери для арены? — спросил, поежившись, Дион Кассий.
Корнелин почтительно объяснил:
— Нет, это ручные львы августа. Они отказываются принимать пищу, имея привычку получать ее из рук императора.
Вергилиан вздохнул:
— Несчастные звери!
— Они на цепи. Если хотите, можно на них посмотреть.
Префект отворил маленькую дверцу, и мы вошли в помещение, служившее, очевидно, скифам для хранения седел и оружия; в стене горел, воткнутый в сделанное для этого отверстие, факел, при его свете в глубине можно было разглядеть силуэты лежащих зверей.
Львы уже второй день не принимали пищу. Как собаки, приподнимая при каждом шорохе уши, они лежали, скучные и сонные, в ожидании, что вот-вот откроется дверь и войдет их господин. Обширное помещение, где они находились, было закрыто, как темница, железной решеткой. Здесь тошнотворно пахло звериным логовом. Тускло догорал светильник. Позванивали цепи, которыми львы были прикованы к кольцам в стене. Порой звери начинали реветь, и тогда все здание сотрясалось от мощного дыхания их страшных глоток.
Вслед за римлянами в подземелье вдруг спустился Олаб, префект скифской когорты, по-видимому в полном опьянении, судя по неуверенной походке. В руках он держал лук и стрелы.
Олаб крикнул в дверцу:
— Кто там есть? Стикос! Амодон! Здесь не светло!
Прибежали два скифа с факелами в руках.
— Поднимите повыше, — приказал Олаб.
Скифы подняли потрескивавшие факелы над головой.
Дион Кассий решил вмешаться. Львы были собственностью государства.
— Что ты хочешь делать?
— Отойди прочь! — грубо ответил скиф.
Кассий промолчал. Корнелин тоже считал, что благоразумнее не затевать ссору с пьяным варваром. Обычно эти люди добродушны и отличаются даже известной мягкостью характера, но под влиянием винных паров не знают предела своему гневу.
— Все-таки посмотрим, что он намерен делать, — предложил Вергилиан, и мы остались.
— Мне посветить, — приказал Олаб воинам. — Выше! Так хорошо!
— Ты хочешь убить их? — спросил его Корнелин.
— Ты угадал. Если умер император, пусть умрут его звери. Поднять, собаки, факелы выше!
Царственные звери перестали реветь и огненными глазами смотрели на людей. Ближе других стоял, повернув огромную голову к Олабу, трехлетний ливийский лев, поистине царь зверей, с косматой гривой. Его Каракалла называл Арзасидом. Пах зверя судорожно раздувался от дыхания. Было нечто разумное, гордое и презрительное в его глазах, которые вдруг вспыхивали зеленоватым светом, отражая огонь факелов. Казалось, он понял. С этими людьми пришла смерть, и никогда уже рука господина не погладит его…
Олаб отступил на шаг, вложил оперенную стрелу в лук, натянул тетиву, далеко отводя локоть и откинув тело назад, и потом метнул смертоносную тростинку в льва. Она коротко прошумела в воздухе и вонзилась в бок зверя, между ребрами. Лев огласил своды ужасающим ревом, от которого стыла кровь в жилах, и забился в предсмертных судорогах. Остальные три льва и львица заметались на цепях, вставали на дыбы, разевая огненные пасти, и потрясали воздух невыносимым для слуха ревом. Казалось, даже на таком расстоянии из этих разверстых пастей до нас долетело зловонное дыхание.