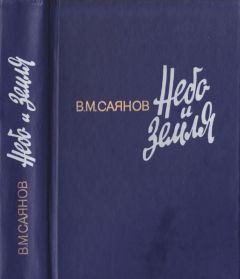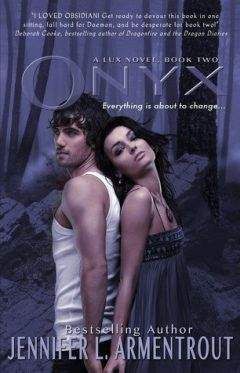Виссарион Саянов - Небо и земля
С того дня как исчез из отряда Васильев, возвращалось старое и легкое чувство, которое еще во время веселой и сумасбродной поездки в Кизел сблизило Глеба с Наташей. Давно ли казалось ему, что жизнь оборвана навсегда, что дело только в какой-нибудь последней беседе, в последних коротких и жестоких словах, сказанных Наташей, а теперь все шло совсем по-другому. Почти каждый день присылала ему Наташа с оказией небольшие письма в узких конвертах, и Глеб без конца перечитывал поденные записи ее госпитальных дел.
Летчики устраивались в отряде надолго, с тем чувством, какое бывало, очевидно, у полярных мореплавателей, когда они дрейфовали на кораблях, вмерзших в вечные льды. Они отдавались медленному и неумолимому течению времени, подхватившему их жизни так же, как воздушный поток влечет потерявший рулевое управление дирижабль.
Новых летчиков в отряд не присылали, и поговаривали о том, что вообще отряд собираются перебросить в пятую армию.
Старые друзья жили тихо и мирно. Ваня целые дни проводил с Тентенниковым, играл с ним в подкидного дурака. Колода распухла, стала грязной, и это злило аккуратного Быкова: давно уже он собирался ее выбросить. Лица королей, валетов и дам были стерты, но неутомимые игроки помнили любую карту и каждый день пририсовывали бороды королям и усы облезлым валетам.
Тентенников часто рассматривал свой старенький самолет и объяснял Ване, как надо держать ручку управления.
— Петр Иванович, — говаривал мальчик, обнимая своего названого отца и лукаво щурясь, — скоро меня будут учить полетам.
— Трудно тебе придется, — улыбался Быков, похлопывая мальчика по широкой и сильной спине. — Таким, как ты, нечего думать о самолете. Я тебя в дикую дивизию отправлю…
— И пойду, — угрожающе говорил Ваня. — Когда я ехал на фронт, то и с дикой дивизией встречался. Кавалеристы на одной станции стояли с конями и учили меня вольтижировке.
— Как же вольтижировка делается?
— Ножницами, — неуверенно отвечал Ваня и махал безнадежно рукой.
— Побасенкам охотничьим ты научился от деда…
— Он меня на биллиарде играть выучил.
— Бесполезное дело.
— Дуплет в угол — бесполезное дело? Да мы с дедом жили на его дуплеты!
— А как дуплеты делаются?
— Забыл, — признался Ваня.
— Всюду свой длинный нос суешь, вот ничего толком и не помнишь.
— Неправда, — обижался мальчик и замолкал ненадолго.
Злиться он долго не умел и через пять минут пускался снова в бесконечные споры.
Он знал всех людей отряда, порою уезжал с кем-нибудь на два или три дня в Черновицы. В такие дни летчики скучали. Тентенников лежал на кровати и поминутно огрызался, и чем-нибудь укоряя приятелей, Быков становился особенно молчалив. Глеб писал тревожные записки Наташе, просил ее, если появится негодный мальчишка в госпитале, гнать его немедленно домой, даже не напоив чаем.
Ваня возвращался домой веселый, с подарками: Быкову и Тентенникову привезет табаку, а Глебу нарядную коробку с конвертами, и снова успокаивались летчики, подсмеивались над Ваниными проделками, заставляли его править бритвы, наклеивать фотографии в альбомы, а то и попросту рассказывать о похождениях деда. Он умел передразнивать знакомых людей и даже научился от старика изображать ярмарочный цыганский хор.
Нынешняя жизнь совсем не походила на то, что было в отряде при Васильеве. Только перед полетами волновались они, как обычно, и Тентенников неизменно, как бы ни болела нога, выходил провожать приятелей.
За три месяца провели летчики только два воздушных боя, но в разведку приходилось летать не реже двух раз в неделю, и Тентенников горевал, что вынужден бездельничать, в то время как друзья рискуют жизнью.
До сих пор еще не был сбит тот германский аэроплан, о котором было столько разговоров в отряде. «Черный дьявола часто появлялся в тылу, бомбил госпитали, сбрасывал бомбы на беженские обозы. Доныне казался он неуловимым.
За последние дни снова участились полеты «альбатросов» над русскими позициями.
«Завтра обязательно полечу, — думал Глеб. — Третьего дня Быков летал, а завтра моя очередь лететь в разведку. Кто знает, может быть, именно завтра я «Черного дьявола» встречу…»
Он хотел только, чтобы в день полета небо было такое же ясное и чистое и чтобы за ночь не усилился ветер.
Он медленно шел по глубокой дорожной колее. День кончался в багровом пыланье снегов и медном блеске разгоравшегося заката. Буки у въезда в деревню казались особенно строгими и печальными. Сразу почувствовал Глеб, как вместе с умиранием дня в его душу входит тихая грусть. Еще час назад был он весел и радостен, широко открытыми глазами вглядывался в светлую даль снежных взгорий, а теперь вспомнились ему вдруг слова Наташи, говорившей о том, что еще не сразу наладится их жизнь после войны.
Он вздрогнул, остановился у занесенной снегом каменной кладки и в ту же минуту увидел бежавшую навстречу маленькую мохнатую лошадку. Она весело мотала мордой и широко раскидывала низенькие сильные ноги. Быков погонял лошадь длинным кнутом, привезенным Ваней из Черновиц.
— Петя! — крикнул Глеб, бросаясь навстречу.
Колеса завязли в снегу. Лошадь остановилась. Быков спрыгнул с телеги.
Глеб взглянул на приятеля и тотчас почувствовал что-то странное, неожиданно сердитое в обличье Быкова, не ответившего на веселое приветствие.
«Неприятности в штабе, должно быть», — решил Глеб и постеснялся спрашивать о Наташе.
Они шли молча. Быков тяжело дышал, словно бежал всю дорогу и никак не мог отдышаться.
Так, не обменявшись ни словом, дошли они до дома.
«Что с ним случилось?» — раздумывал Глеб, с недоумением поглядывая на Быкова и силясь понять причину неожиданной перемены. Еще больше удивило его, когда он заметил, что Быков подошел к кровати Тентенникова, тихо дремавшего после очередной игры в подкидного дурака, растолкал его и что-то зашептал на ухо, поминутно оглядываясь, словно боясь, что Глеб подслушает их разговор. Тентенников приподнялся на локте, покачал головой. Минут через пять оба они вышли из комнаты. Тентенников шел так быстро, как только позволяла ему незажившая еще рана, постукивая палкой по скрипучим некрашеным половицам. Быков даже не посмотрел на Глеба, не сказал, куда они собрались в такую позднюю пору. Глеб подождал немного, потом подошел к двери, распахнул ее и услышал торопливый и взволнованный разговор приятелей, остановившихся неподалеку.
Услыхав скрип отворяемой двери, они оглянулись и замолчали. Глеб обиделся, притворил дверь. Его огорчило таинственное перешептывание друзей. Он лег на кровать, закрыл глаза. Что-то непонятное происходило с Быковым. Доселе никогда не бывало, чтобы заводились у приятелей какие-то секреты, которыми они не делились бы с Глебом.
За последние годы жизнь каждого из них была известна друзьям до мельчайших подробностей. И радость и горе привыкли они делить, как родные братья. Правда, в Тентенникове еще проглядывало изредка старое бахвальство, но Быков-то с Глебом давно уже ничего не скрывали друг от друга.
Быков наклонился над кроватью Глеба так же, как давеча пил кроватью Тентенникова, и виновато спросил:
— Коньяк у нас, Глебушка, есть?
— Не знаю, — сердито отозвался Глеб.
— Конечно же есть, — торопливо проговорил Тентенников. — В прошлый раз, когда мотористы ездили с Ваней в Черновицы, привезли три бутылки. Две мы распили, а третью я спрятал.
Он достал, из своего сундучка, стоявшего под кроватью, бутылку коньяку и со странной суетливостью принялся разливать в стаканы.
— Я пить не буду, — сердясь, ответил Глеб.
— Обязательно выпьешь, — сказал Быков и широкой шершавой ладонью провел по волосам приятеля.
Глеб нехотя встал, подошел к столу. Ему показалось, будто веки Быкова припухли, а в повадке Тентенникова появилась странная настороженность.
— Что приуныли? — спросил Глеб, поднося к губам стакан с коньяком.
Приятели молчали.
«Странно, — подумал он, — черти драповые, тоже по стаканчику тяпнули, а хмурятся, будто несчастье какое случилось».
Он громко сказал:
— Втянулись в питье вы, что ли, никак не пойму? В прошлый раз столько же выпили, и что же? — всю ночь песни пели. А теперь как сонные мухи сидите и на меня нагоняете тоску…
— Глебушка, — дрожащим голосом начал было Быков и тотчас же осекся.
— Обязательно к Наташе съезжу на днях, а оттуда уже и до Черновиц недалеко. Такого коньяку привезу, что в жизни не пивали.
Быков заходил по комнате, заложив руки за спину и низко склонив голову, а Тентенников закрыл лицо руками, словно у него кружилась голова, и глухо ответил:
— Ладно уж…
Быков подошел к Глебу, взял его под руку, мельком взглянул на Тентенникова, тихо спросил: