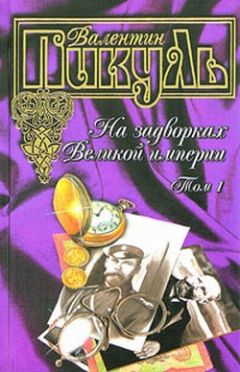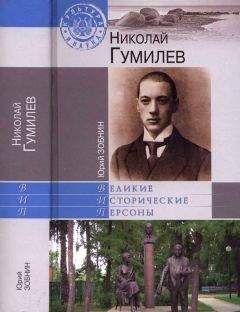Валентин Пикуль - На задворках Великой империи. Книга вторая: Белая ворона
Пахнуло на него забытым миром – стихосложением, причудливым миром словесных красок. Вот и Катулл остался, вот и Петины гравюры лежат, ожидая ценителя… Всегда, когда приходилось соприкасаться с чужой энергией, с чужим талантом, хотелось и самому сделать что-то. «Может, и впрямь открыть выставку?..»
– А писем разве сегодня не было? – спросил он лакея.
– Какие письма, князь? Можно писать что хочешь, потому как свобода, но почта не отправит… Снова бастуют!
Да. Телеграфисты снова бастуют. В заснеженных полях свистели стынущие провода: ни звука по телефону, ни точки, ни тире не отбито в России; связь Петербурга с провинциями снова прервана. И он думал, что куда-то надо повернуться, – так дальше нельзя. Скала скалой, но волны течений даже не разбиваются о грудь губернатора – они просто обтекают его. Борьба и служба идут мимо него – в прошлое. Сам по себе Совет, сами по себе Чиколини и Дремлюга: лебедь, щука и рак – рвут и тянут губернию в разные стороны, только он остался там, где и вступил…
– А вам письмо, – объявил на следующий день Огурцов князю.
– Но откуда? Почты ведь не работают.
– Не по почте, князь. Подкинули! Утром гляжу – лежит… Сергей Яковлевич вскрыл конверт. Первые слова: «Каин! Что ты сделал с братом своим Авелем?..» Перевернул конверт – чистый, покрутил письмо – не подписано: анонимка! И стал читать снова:.
«Каин! Что ты сделал с братом своим Авелем? Ты, дворянин, предал и продолжаешь предавать древнее российское дворянство. К чему тебе, князь, эти некрасивые заискивания перед шайкой бандитов и грабителей?..»
Все стало по своим местам: ему мстят. За что – это уж им лучше знать. За все понемножку. Ну, и понятно, что почтовых услуг не надобно, – принесли и подкинули. Свои! Дворяне. Уренские. Люди незыблемые. Как кирпичи в древней кладке.
– Ну-ка, предводителя… Найдите!
Атрыганьева искали и не нашли. «Какая гнусность», – возмущался Мышецкий. В таком состоянии его и застал полковник Алябьев.
– Поздравляю, князь, – сказал.
– С чем, полковник?
– Говорят, что там, наверху, проводят закон о праве каждого губернатора вводить в своей губернии военное положение. Какие полномочия!.. Предстаю пред вами, как лицо подчиненное.
– Возможно. Но я вас подчинять себе не стану, полковник. Вы не сумели подчинить себе солдат и желаете передоверить эту обязанность мне?..
Алябьев присел на стул и вкрадчиво начал:
– К чему волноваться? Вы же понимаете, князь, что революция в России – это фарс! Театральный фарс, и не более. Надо лишь выждать момент, когда революция сама хрустнет. Тут и ломай ее хребет через колено – только позвонки посыплются!
– Вы искренний человек, полковник, – ответил Мышецкий. – Но я буду искренен тоже; как вы думаете, а что нам делать с манифестом его величества? Или это тоже слова? Только слова?
– Весь мир состоит из слов, – улыбнулся Алябьев. – Отберите у нас слова… что останется? Неужели вы, князь, умный человек, и поверили в эту бумажку. Это – не документ его императорского величества, это лишь отписка царя от революции! Рвите ее, как рвется любая отписка.
– Манифест? – поднялся Мышецкий. – Полковник, надо же думать, что говорите… Вся Россия столько лет ожидала этих слов от царя, и вот она получила их. А я должен, по-вашему, рвать? Вы странный человек, полковник… Откуда у вас все это?
– От мундира, князь, – ответил Алябьев с угрозой и вдруг выкрикнул: – Всех упрячу в казарму! Надоело! Буду стричь!
– Стригите, – ответил Мышецкий. – Но зачем же кричать?..
Это были трудные для России дни. Два кулака (кулак Революции и кулак Самодержавия) уперлись один в другой и терлись, хрустя костяшками, обдирая кожу. Текла кровь: оба кулака были крепкими.
«Дни свобод» надломились, когда премьер Витте арестовал в Москве бюро Крестьянского съезда, – и Мышецкий был поражен:
«Как он мог решиться? Неужели Алябьев прав?»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– А что я не вижу давно землемера? – спросил Мышецкий. – Куда делся Такжин? Статистик? Казначей? – В самом деле, присмотревшись, он заметил, что губернское присутствие опустело: столы запылены, стулья раздвинуты, чернила высохли. – Огурцов! Объясните, что происходит?.. Больны?
Огурцов бестрепетной рукой полез за регистры в шкафу, вытащил большую бутылку, звякнул рюмками:
– Эх, Сергей Яковлевич, будто вы сами не понимаете?
– Не понимаю.
– Рядом с вами, князь… опасно, – вразумил его Огурцов.
– Чего бояться? – соображал Мышецкий.
– Да неспокойно, сами знаете… И не надо бы вам, князь, якшаться с этим Советом! Оно и видно: чиновнику тоже боязно – губернатор да камергер, он не пропадет, а чиновник? Куда пойдет, коли его со службы высвистнут по «третьему» пункту?..
Выть хотелось – в голос. В прошлом году бросили. И теперь. Совсем пустое присутствие. Губерния оголена! Один, как божий перст, торчит губернатор. Да еще вот старый верный драбант Огурцов – этот князя не выдаст: рюмкой – звяк, вилкой – бряк…
– Ну, князь? Четырехспальную соорудим? Или отложим?
Уже на пятой рюмке Сергей Яковлевич сказал так:
– Пусть я буду один, но власть губернатора должна существовать. В других губерниях еще хуже: губернаторов смещают властью Совета. А у нас – власть вкупе с Советом… Что ж? Не быть же мне одному! А они бросили, как крысы… Как крысы! Пусть пеняют на себя… Только они у меня пенсии и видели!
С этого дня – после дворянской анонимки, после дезертирства чиновничества – Мышецкий вдруг обрел спокойствие и даже полное бесстрашие. И напрасно Дремлюга уговаривал его не ездить одному, – мол, надобно иметь охрану на козлах.
– Вспомните, князь, Симона Геракловича! Он тоже, покойник, артачился, когда я калмыка ему на козлах менял. А что стало? Мученическая кончина, ваше сиятельство!
– То Влахопулов, – отмахивался Мышецкий. – А меня не тронут.
Окольными путями, через Тургай, до Мышецкого дошел грозный окрик министра Дурново – изолировать вредную печать, провести аресты, митинги расстреливать.
– А это – провокация власти, – рассудил Сергей Яковлевич. – Я даже отвечать ничего не стану в подтверждение получения.
– Но это же… министр! – попятился Дремлюга.
– Но это же… царь! – ответил ему Мышецкий, потрясая манифестом. – Отныне я буду исполнять только те приказы и распоряжения свыше, которые не противоречат манифесту государя императора!
Случился тут и Чиколини, который вдруг поддержал губернатора.
– Верно, князь, все верно, – заговорил полицмейстер. – Не дай-то бог нам в кровищу вляпаться. Мало ли что они там пишут! Их бы вот сюда, на наше место… Они бы иначе чесались!
Дремлюга понял, что губернатору вожжа под хвост попала, – лучше не спорить. Начальник жандармского управления ныне заметно потишал, занимался больше «вермишелью» (мелкими вопросами). Совет работал у него под самым боком, полоскалось на ветру красное знамя, но капитан только суммировал о нем сведения на будущее. А так – пренебрегал…
Дремлюга с трудом разыскал Додо Попову, как ни странно, она затаилась вдруг в холостяцком доме Осипа Донатовича Паскаля, нигде не показывалась, грустная и надломленная. Сказала:
– Давненько не слыхала я звона ваших шпор на улицах.
– Мадам, шпоры меня заставил снять ваш братец. Но, я уверяю вас, скоро все изменится, манифест сдадут в архив…
– Мой брат, – задумалась Додо, – явный кадет.
– Ни в коем случае, – горячо возразил Дремлюга. – Он кадет тайный, вроде масона.
– Неужели он искренне верит? – спросила Додо.
– Прямо спит на манифесте и под тарелку себе подкладывает… И хитрее он всех губернаторов на Руси! Смотрите: ни одного ареста! Все четыре свободы налицо. И вот, когда откроется дума, тогда как раз будет большой спрос на особую кадетскую породу губернаторов. Отсюда, сами понимаете, недалеко и до кадетского министра… Сергей Яковлевич далеко метит! А вы, Евдокия Яковлевна, все продумали? – спросил капитан, намекая кое на что.
– Я все перестрадала, и мне достаточно. Оставьте меня!
Дремлюга внимательно смотрел на женщину: она состарилась…
После встречи с Додо капитан повидался с Ферапонтом Извековым, который сидел в своей лавке, играя с откормленным на мясе котом.
– Ферапоша, – ласково сказал жандарм, перелезая через прилавок, – что-то не нравится мне наша баба… Похоже, скисла!
– Восторженная женщина, – отозвался Извеков, – она еще даст дыму с копотью. А коли нет, так мы ее…
– Смотри, – предупредил жандарм, – у нее братец.
– Да они как кошка с собакой: не сбрехаются. Нам-то оно, глядишь, и на руку! Пушай цепляются – разнимать не станем…
Дремлюга притянул Извекова к себе, попросил:
– Ну, раскрой-ка свою пасть, братец! Дай полюбоваться…
Извеков распахнул свой омут, полный блестящих зубов.
– Здорово! – восхитился Дремлюга. – Так вот, миляга. Я тебе эти зубки, как и предыдущие, все до единого под печки вымощу…