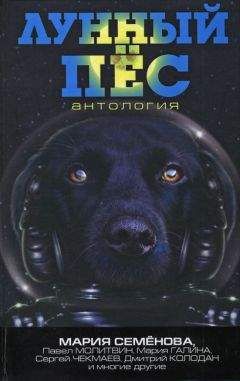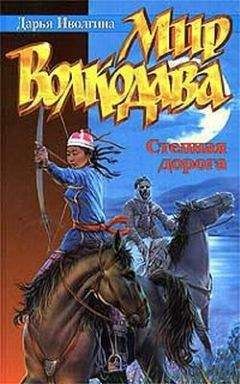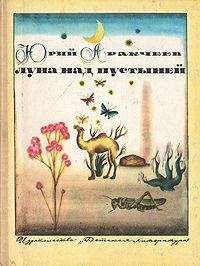Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем)
Еще в Москве, получив приглашение в Вильну, Бруно почувствовал мамино смятение и понял, что это оттого, что ему предстоит наведаться во «вражеский стан».
О семейной драме они никогда не говорили. Не запрет был, не табу, а словно бы все само собою разумелось, и это не тяготило, не мучило, потому, вероятно, что жилось покойно, уютно, и Бруно любил Горского. Разрыв же отца и матери представлялся очень, очень давним. То было почти в младенчестве, в Париже, а Париж тоже очень давно истаял в сером, лиловом, туманном, остались разве что интонации «истого парижанина», какими русские гимназии не одаряют даже пай-мальчиков.
И все же, подрастая, Бруно думал об отце. Расспрашивать маму он не решался. В его детской робости была недетская деликатность. Нет, он не предполагал встретить холодный мамин отпор, а боялся своими расспросами причинить боль отчиму.
Победило, однако, любопытство не совсем ребяческое, потому что Бруно хотелось знать человека, которого постигло такое непоправимое несчастье.
Они были вдвоем, она стала рассказывать, в чертах ее прекрасного лица проступало выражение молодой отваги, и Бруно чувствовал восторг участия в невероятно опасных приключениях, не книжных, не майнридовских, а взаправдашних.
Изо всего, что она и в тот раз, и потом рассказывала, Бруно особенно приник к истории, как папа плыл в лодке-душегубке по огромной бешеной сибирской реке со страшными скалистыми берегами, поросшими девственным лесом, где водились косматые звери и бродили беглые каторжники.
Он уже был студентом, когда прочел биографическую заметку об отце, написанную Лавровым в Париже лет десять тому назад. Мама сказала: «Нелегальное издание» – и прикусила губу, Бруно заметил тень обиды и гнева: «Это ведь мой почин, это ведь я многое сообщила Петру Лавровичу».
Бруно понял, что тут какая-то размолвка с Лавровым и какая-то связь с той драмой, которую они с мамой не трогали. Бруно почти не ошибся, почти догадался.
Петр Лаврович был привязан к обоим – к Герману и к Зине, разрыв переживал горестно, но сентенциями не кадил, справедливо полагая, что нет ничего гаже принудительного, «в законе», супружества. Потом, когда Герман оказался в бессрочном заточении, а Зина сошлась с живописцем Горским, Лавров ничего не имел против этого человека, но Германа-то любил наравне с дочерью Маней и ничего поделать с собою не умел, и ему не хотелось обращаться к Зине с чем-либо относящимся к Герману. Она это заметила, обиделась и разгневалась. И все ж не хлопнула дверью, а продолжала бывать в давно знакомой квартирке на улице Сен-Жак – помогала собирать материалы к биографии Лопатина. Просила лишь об одном: чтоб ничего не было «сугубо личного».
Но как раз именно это личное, как полагали втайне друг от друга и Зинаида Степановна и Бруно, не могло не возникнуть в Вильне. И Бруно изготовился к сопротивлению на тот случай, ежели его маму заденут хоть намеком.
На Тамбовской, однако, был задан лишь этикетный вопрос о здоровье Зинаиды Степановны. Казалось бы, вежливо отвечай, вежливо благодарствуй, и баста. Ну нет, в банальной краткости вопроса, в мимолетности вопроса Бруно и усмотрел враждебность к его матери. И едва Всеволод Александрович осведомился, видел ли племянник нелегальную брошюру «Процесс 21-го», Бруно, выпрямившись и твердо глядя на дядюшку, в свою очередь осведомился, известно ли Всеволоду Александровичу, что именно Зинаида Степановна подала Лаврову мысль приложить к брошюре биографическую заметку, и не только мысль подала, но и деятельно способствовала сбору материалов? Всеволод Александрович не удержался от удивленного восклицания и смущенно забрал в кулак свою длинную, черным веером бороду, а тетка Лидия Яковлевна, к которой, правду сказать, Бруно не проникся симпатией (ее хлопотливая заботливость казалась ему не совсем искренней), потупилась.
Все эти дни Бруно не разлучался с Всеволодом Александровичем. За полночь сидели под круглой висячей лампой; обедали в чистеньком общественном саду, где журчал фонтан; брели тропой вдоль железной дороги, в сторону бывшего монастыря, а теперь летней резиденции виленского епископа.
И это там, на повороте тропы, увидев сквозь листву старинную часовенку в солнечных пятнах и шевелящихся тенях от высоких сосен, это там Всеволод Александрович остановился, задумался, вычерчивая тростью зигзаги, потом сказал как бы и не племяннику, а себе: «Говорят, древний герб нашего города…» – и спросил: «Ты знаешь о святом Христофоре?» Бруно повел плечом: что-то, где-то, когда-то не то слыхал, не то читал о каких-то подвижниках, о каких-то королях или герцогах.
Был гул литовских сосен, облитых полуденным солнцем. Большое доброе лицо Всеволода Александровича светилось удивлением и радостью – он сознал самое главное, самое существенное. Христофор, святой Христофор… Если быть точным, Христофором-то стали звать потом, после подвига, когда уж, наверное, и на земле его не было, да дело-то не в этом, совсем не в этом, ты слушай, Бруно, слушай… Вообрази: Христофор, могучий, исполненный сил, стоял, опираясь на посох, близ бурного потока. Скалы, кустарник жесткий… И тут подошел к нему младенец, голенький, кудрявый, и попросил перенести на другой берег. Христофор поднял младенца на плечи, понес наперерез стремнине. Ох, каким тяжелым оказался этот младенец, каким тяжелым даже для него, могучего Христофора. А поток ревел все грознее, все глубже был поток. Христофор выбивался из сил, мелькало: не могу больше, не могу, не могу, но он нес младенца, а тот был все тяжелее, тяжелее… Ты понял, Бруно? Он нес на себе Грядущий День.
Вечером Всеволод Александрович отдал ему весточки, полученные из Шлиссельбурга.
Бруно взял листки и затворился в комнате. Положив на столик, коснулся, как незрячий, подушечками пальцев – в шероховатости бумаги ощутилась шероховатость казематных плит. Он стал зажигать лампу, спичка дрожала. Разлился свет, выступили строки – ровные, как по ниточке, каждая буква, мелкая и отчетливая, будто галька на дне ручья, и Бруно услышал гармоническую ясность этого почерка.
Сыну я писать не буду, потому что слишком люблю его, чтобы огорчать его молодость мыслями о трагической судьбе отца. Было бы лучше, если бы Б. считал меня давно умершим. Затем по характеру моих отношений с его матерью, мне нельзя было бы не внести в переписку с ним или фальшь, или сдержанность, чего я не умею и не хочу. К тому же самый факт этой переписки едва ли был бы по сердцу его матери, а я не желаю ни за что на свете портить их взаимных отношений внесением в них каких-либо диссонансов. Одним словом, писать ему не могу и не хочу, как он ни дорог мне. Большое спасибо тебе за сообщение кое-каких сведений о Б.Я очень рад за него. Пусть он живет занимательно, ярко, со всей полнотой и разнообразием житейских впечатлений! Пусть даже самая наука будет для него ответом на спрос собственной души и на требования жизни, а не формальной обязанностью, наложенной обычаем в заранее предустановленных рамках. Больно и унизительно мне иной раз подумать, что я ничем не помог ему в этом отношении, тем больше чести его матери, которой удалось справиться с нелегкой задачей в одиночку. Дай бог и дальше им обоим всяческих успехов и счастья! Лицом Бруно вылитый портрет своей матери. Иной раз я просто вздрагиваю, взглянув нечаянно на его фотографию: точно из рамки вдруг взглянула на меня его мать! Сам я могу реализовать себе взрослого Бруно только умом; в памяти же моего сердца ему всегда не больше семи лет. Всего чаще мерещится мне: Вологда, раннее утро, Бруно наскучило утреннее одиночество; и вот я чувствую, как легкие детские пальчики осторожно поднимают мне веки и как тихий– детский голосок спрашивает робким шепотом: «Папа, ты спишь?» Затем раздается радостный вопль: «Нет, ты не спишь! У тебя губы смеются!» И те же дерзкие детские пальчики начинают ерошить сверху мои усы, чтобы обнаружить ясней эту предательски обличительную улыбку губ…
О том, как я живу, ты можешь судить и по догадке. Сладости подневольного житья-бытья известны тебе немножко из собственного опыта. Прибавь сюда, что эти сладости вкушаются уже годы и годы. По-видимому, ты все же разделяешь общераспространенное в «публике» мнение о плодотворности уединения для спокойного, систематического мышления. Но ведь это только всеобщее простодушное заблуждение. На деле плодотворно только уединение добровольное и временное. Но довольно. Я мало склонен к меланхолическим излияниям, элегическим жалобам и тому подобным вздорным сентиментальностям.
Бруно бросился ничком на постель.
* * *Потом, позже, не мог припомнить, как оно подошло вплотную, это ощущение, но самое ощущение помнилось даже как бы и не памятью, а телесно, всем существом: бесконечное одиночество в замкнутом пространстве, из которого выкачан воздух. В слова это не вмещалось. Не жизнь и не смерть? Но такое невообразимо…