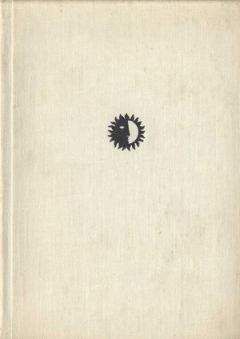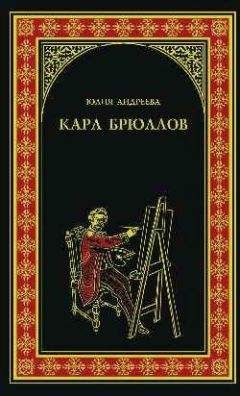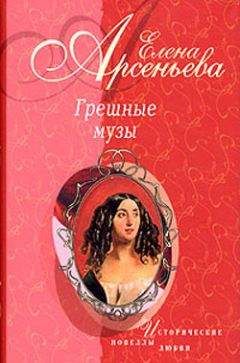Юрий Вяземский - Детство Понтия Пилата. Трудный вторник
Голос у старухи стал теперь высоким и девичьим.
«Ты мне наврал, бельг. Он совершенно не заикается», – сказала она.
«Я не наврал. Я сразу предупредил, что я его вылечил», – возразил Рыбак.
«Вы, мужчины, всегда врете», – будто не слыша возражения, сказала Пила.
Тут за стеной снова звякнула цепь. А старуха девичьим голосом произнесла:
«Скажи ему, что боги его хорошо охраняют. Несколько раз спасли от верной смерти».
«Он хорошо понимает по-гельветски. Ему не надо переводить», – ответил Рыбак.
«Переводи ему мои слова, чтобы он тоже знал», – будто не слыша, продолжала Пила: – Потолок должен был упасть на его голову. Но рабыня отодвинула постель… Потом косточкой мог подавиться. Но какое-то животное – козел или хряк – толкнуло его в спину. И косточка выпала…»
Я подозрительно покосился на Рыбака – ведь я, как ты помнишь, рассказывал ему об этих происшествиях. Но мой наставник быстро покачал головой и предостерегающе поднес к губам палец.
«Потом отчим хотел его убить. Но мачеха не дала… Потом конь понес. Но Эпона вмешалась, и конь не сбросил… Потом на войне, на которой отчим погиб, его спасли от солдата, который собирался оторвать ему голову и сделать из нее кубок для питья…»
Я слушал, все больше удивляясь, потому что о трех последних случаях я ни словом не обмолвился Рыбаку.
Но тут Рыбак возразил Пиле и сказал:
«Ты что-то недоглядела, Пила. На войне у него погиб родной отец, а не отчим».
И снова, будто не расслышав, старуха подытожила:
«Да, пять раз спасали. И, думаю, дальше тоже будут спасать. Потому что берегут его. Нужен он им для чего-то… Ты всё ему переводишь, бельг?»
Рыбак молча кивнул.
А Пила сказала:
«Давай теперь поглядим на его родителей».
И пустыми своими глазницами уставилась на меня. А потом сказала:
«Нет, так мне не видно. Возьми полено и положи в огонь».
У северной стены лежала аккуратная поленница. Рыбак подошел к ней и взял верхнее полено.
«Не то берешь, – тут же сказала Пила. – Возьми из нижнего ряда».
Рыбак принялся осторожно извлекать нижнее полено. И – веришь ли, Луций? – едва он прикоснулся к тому полену, мне сразу стало не по себе. Как будто чья-то невидимая рука проникла мне в живот, ухватила за желудок и стиснула.
«Бережней вынимай. Смотри, не развали мне поленницу», – велела Пила.
Когда же Рыбак вынул полено и положил его в огонь, в животе у меня отпустило. Но в груди, под сердцем, родилось жжение, и будто стон вырвался и вылетел у меня из горла, хотя на самом деле я не издал ни звука.
«Не давай ему долго гореть, – высоким голосом продолжала командовать Пила: – Как только появится первый уголек… Вот, целых два появились. Вынимай полено… Левый отломи…»
Рыбак резким движением пальцев отщелкнул от полена горящий уголек, и тот упал на землю.
«Пусть он возьмет, – руководила старуха, глядя на меня пустыми глазницами. – Рукой пусть возьмет и остудит».
Я схватил уголек и тут же его выронил, настолько он был горячим.
А Пила произнесла первую фразу, которую я не понял.
Рыбак заметил и быстро перевел:
«Она говорит, что прошлое всегда жжется. Особенно то прошлое, которое тщательно скрываешь от других и от себя».
Я снова схватил уголек и стал на него дуть, перебрасывать из руки в руку.
Скоро уголек перестал жечься, и его можно было зажать в кулаке.
А Пила, словно увидев, сказала:
«Закрой окно. И посади его рядом со мной».
Рыбак тем же куском торфа – похоже, это был все-таки торф – заткнул отверстие в восточной стене. Потом от шкафа принес маленькую табуретку и усадил меня на нее, напротив безглазой женщины.
«Пусть даст мне уголек», – девичьим голоском велела Пила и протянула правую руку. У нее была узкая нежная ладонь с длинными и тонкими пальцами.
Осторожно передавая уголек, я старался не коснуться этой ладони, почему-то ожидая, что она будет неприятно холодной. Но все-таки коснулся и почувствовал, что рука у нее очень горячая.
Зажав уголек в кулак, Пила положила руку на колено, потом опустила голову и, будто разглядывая свой кулак, заговорила – теперь низким и гулким голосом:
«Отца его сразу вижу. Он не был римлянином. Он был царем. Он был…» – Пила произнесла какое-то слово, которое я не понял, потому что не знал. Но Рыбак тут же пришел мне на помощь и перевел: «Звездочет. Есть у вас такое слово? Она говорит, отец твой был звездочетом».
А Пила продолжала:
«Его звали Аттисом или Атием. Точно я не могу разглядеть его имя, потому что оно не наше… Он бросил его мать, когда она еще носила в утробе… А отчим его ненавидел. Он любил свою дочку… У него была сводная сестра. Но она умерла от несчастного случая…»
Я быстро глянул на Рыбака, а тот вздрогнул от моего взгляда и приложил палец к губам.
«С матерью сложнее, – мужским голосом говорила старуха. – Я ее почти не вижу… Вижу только, что она была рабыней. И что она жива до сих пор…»
Тут Пила произнесла вторую фразу, которую я совершенно не понял. И обернулся за помощью к моему наставнику.
Но Пила в это время сказала:
«Это ему не надо переводить. Переведи ему, что настоящий его отец давно умер и что сам он – царевич. Из очень знатного и могущественного рода».
«Ты понял?» – спросил меня Рыбак.
«Я ничего не понял, – прошептал я. – Во-первых, я не понял…»
«Ты – сын царя и рабыни. Вот что она говорит», – перебил меня мой наставник.
А Пила подняла голову, задрала ее к потолку и сказала:
«Теперь о главном. О его будущем».
Не опуская головы, старуха разжала кулак, протянула руку и велела:
«Положи уголек обратно в очаг».
Рыбак выполнил ее указание.
«Теперь погаси полено. Оно чадит. Мне это мешает».
Рыбак оглянулся в поисках воды. А женщина, не опуская задранной головы, сказала:
«Возьми половник и зачерпни из котла».
Рыбак и это указание выполнил, быстро и, как мне показалось, услужливо. И в хижине еще сильнее запахло медом и тмином.
Только теперь старуха опустила голову и велела:
«Прялку мне дай».
Рыбак подал ей прялку. Откуда он ее достал, я не видел, но достал моментально, будто не впервые выполнял подобное поручение и хорошо знал, где прялка находится.
«Посади его справа от меня», – велела Пила.
Меня передвинули.
Левой рукой взяв прялку, женщина правой рукой стала осторожно вытягивать нить из серого комка шерсти.
«Пусть палец мне даст».
Я протянул ей левую руку, на всякий случай – все пять пальцев.
Пила выбрала безымянный и стала наматывать на него нить.
Нить была белой, неожиданно белой по сравнению с тем серым комком, из которого она ее выпрядала.
Три раза обмотав нить вокруг моего пальца, Пила стала говорить. И теперь произносила слова обычным голосом: не низким и не высоким, разве чуть треснутым и хрипловатым. И хотя слова требовали восклицания, сам тон ее голоса был ровным и спокойным. И с каждым предложением речь становилась все менее разборчивой и менее для меня понятной.
«Клянусь первой Владычицей, этого царского сынка ждет великая слава. Страшная. Вечная. Люди будут его славой заикаться. Как сам он недавно… Горы назовут его именем. Одну из них вижу. В Ретии».
Пила еще выпряла нить и снова три раза обмотала вокруг моего пальца. Мне показалось, что нитка теперь посерела.
«Дева-Матрона, – продолжала колдунья. – Под великой звездой родился. Пришедшей с востока и с севера… Но не его эта звезда… А он, слепой и глухой… Звезду погасит… На небо посягнет…»
Речь Пилы становилась все более сбивчивой. А нить, которую она теперь вытянула из комка и трижды обернула вокруг моего пальца, показалась мне слишком темной, почти черной.
И вот, то ли действительно видя нечто в своей слепоте, то ли прикидываясь перед нами и изображая из себя пифию или сивиллу, старуха забормотала:
«Мать-богиня, на помощь… Приведут… Злобный жрец потребует крови… Он не признает. Он не почувствует… За себя испугается… А великого страха… вечного ужаса…»
Пила вздрогнула, и тело ее подпрыгнуло на кресле, будто в него ударила невидимая молния. Правая рука дернулась и темную нить оборвала.
И, выронив прялку из левой руки, седая вещунья быстро и легко вскочила на ноги. И трижды произнесла одну и ту же фразу: сначала тихим и ровным голосом, потом гневным мужским басом, а затем – испуганным девичьим вскриком.
Я понял, что фраза была одной и той же. И каждое слово в отдельности мне было понятно: «он», «жертва», «дерево» и два раза «бог». Но глагол, который связывал эти слова, мне был неизвестен. И всякий раз старуха переставляла местами слова, словно нарочно, чтобы меня запутать.
Я глянул на Рыбака, призывая его на помощь.
Но Пила рухнула в кресло, закрыла лицо руками и простонала:
«Уведи его!.. Не могу больше!.. Нет мочи на него смотреть!..»
Я и опомниться не успел, как Рыбак подхватил меня под мышки, поднял с табурета и чуть ли не вынес из хижины.
XIV. На улице светила луна. Но какая-то тусклая и серая, словно через облако пробивалась; хотя облака не было, и звезды ярко сверкали вокруг.