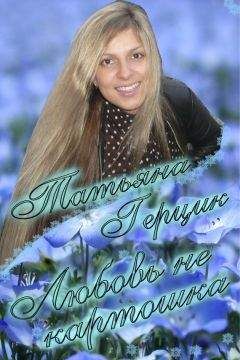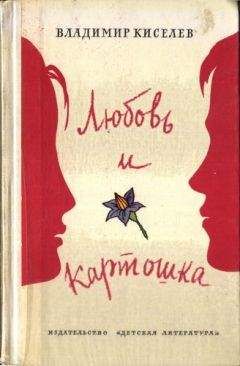Илья Сельвинский - О, юность моя!
— О чем ты? Я все понимаю.
— Я люблю вас, Алла!
— Благодарю. Глубоко тронута.
— Вы иронизируете?
— Нисколько. Но ты думаешь только о себе.
— Леська молчал.
— Ну как? — спросила она после паузы. — Принял какое-нибудь решение?
— Я ничего не решал... Я пришел к вам, чтобы сказать, что я еду.
— Но ведь я прошу тебя не ехать.
— Не могу.
— Несмотря на мою просьбу?
— Да.
— Молодец. Уважаю тебя за это. Ступай, закрой дверь.
Леська кинулся к двери, захлопнул ее и собирался повернуть ключ.
— Ты меня не понял, Бредихин. Я имела в виду, что ты закроешь дверь с той стороны.
— Что вы, Алла.
— И никогда больше здесь не появишься.
— Но почему гяк жестоко? За что?
— Я не привыкла, чтобы мной швырялись.
Карсавина повернула голову к балкону и глядела на море.
Леська не знал, что сказать, что сделать. Все слова сейчас ничего не стоят.
— Ты еще здесь?
— Да... — хрипло ответил Леська.
— Уходи!
— Алла!
— Уходи, я сказала.
Голос Елисея стал тверже:
— Хорошо. Уйду. Но надеюсь, что вы никому не расскажете о той тайне, которую я вам сообщил?
— Можете быть спокойны.
Елисей постоял, потом медленно начал отходить к двери в надежде, что Алла Ярославна его вернет.
Но Карсавина не вернула.
8
Теперь Елисей оказался в абсолютном одиночестве. Рухнули две самых больших привязанности в его жизни: дружба с Шокаревым и любовь Аллы Ярославны. И в обоих событиях виной была революция. Но Елисей не мог ей изменить.
От Шулькина не было никаких сигналов. Очевидно, Леськино время еще не наступило. Хоть бы скорее!
Иногда Леська бегал из подвала к морю. Но теперь он оставался на пляже дольше положенного срока и не спускал глаз с балкона. Там, за гардинами, лежал самый дорогой для него человек на свете...
Однажды на балкон вышла Даша и повесила черно-бурую лисицу на спинку стула проветриться.
В другой раз вышел Сеня. Повертел головой, как птица, и заскучал. Наверное, Вера Семеновна интимничает с Аллой Ярославной. Как Леська ему завидовал!
Прошло два дня. На третий Елисей послал Карсавиной записку:
«Могу ли я Вас видеть? Умоляю...»
Ответ пришел на обороте:
«Нет!»
С восклицательным знаком.
Неужели это так серьезно? Но ведь не может такая женщина не понимать, что он не в силах поступить иначе? Должна же быть в человеке хоть какая-то боль за человечество? Благородство какое-то!
Так прошел третий день.
День четвертый.
Леська поднимается из своего подвала и, как лунатик, входит по ступеням на второй этаж. Мраморные перила белы до голубизны. Зеркальная дверь. Маленький коридор. Здесь его встретил запах знакомых духов... Вот, наконец, комната Аллы Ярославны. Окна глухо задрапированы. Розовая мгла. Пока Елисей осваивался с полутьмой, послышался голос:
— Сейчас же уходите.
Леська подошел к постели. Боже мой, как эта женщина осунулась! Только ли от болезни?
— Уходите немедленно.
Леська поймал ее руку, но она с силой вырвала ее.
— Не смейте меня касаться! Ступайте вон! Вы больше для меня не существуете.
— Не уйду.
Карсавина позвонила. Сейчас войдет Даша. Елисей покорно ждал.
— Даша! Этого господина никогда ко мне не впускать.
Елисей вышел. В коридоре провожал его запах карсавинских духов.
— За что она тебя так? — сердобольно спросила Даша.
— Не сошлись во взглядах.
— Как это «во взглядах»? На других девок взглядывал, что ли?
Сойдя в бельэтаж, Елисей остановился у парадной лестницы. Он чувствовал, что не может уйти из дорогого ему «Дюльбера» как ошпаренная собака. Вспомнился номер 24. Там жил Тугендхольд.
Яков Александрович сидел за столом и что-то писал своим рисующим почерком.
— А-а, Елисей? — приветствовал он Леську, не отрываясь от письма.
Леська сел на стул у распахнутой на балкон двери. Тугендхольд писал. Леська сидел тихо. Тугендхольд писал, писал. Леська глядел на его сухое нервное лицо, вспомнил почему-то Беспрозванного и вздохнул.
— Кто здесь? — испуганно вскрикнул Тугендхольд и обернулся. — Ах, это вы? Вы ко мне?
— Да.
— Я слушаю вас.
Яков Александрович встал со стула и подошел к Леське.
— Что-нибудь случилось?
— Побей, но выучи, Яков Алексаныч: что такое вкус?
Тугендхольд ничуть не удивился.
— Ах, милый! — сказал он серьезно. — Если б я это знал! Вкус подобен электричеству: все имеют с ним дело, но никто не знает, что это такое.
— Но ведь не может быть, чтобы вы, искусствовед, никогда не задумывались над вопросом о вкусе.
— Задумывался. И сейчас думаю. Но то, к чему я пришел, меня не устраивает.
— К чему же вы все-таки пришли?
— Боюсь, что вкуса не существует... Это очень грустно, но это так. В определенных слоях общества постепенно вырабатывается понятие о том, что прекрасно и что безобразно. Если вы хорошо усвоили отношение вашего круга людей к вещам, которые считаются прекрасными, и к вещам, кои числятся безобразными, значит, можете считать, будто у вас имеется вкус. Но и он с течением времени изменяется, ибо изменяется и та среда, которая создала его.
— Вы можете это доказать?
— В какой-то мере могу. Возьмем, ну, хотя бы образ библейской Евы. Вот взгляните на эту репродукцию.
Тугендхольд раскрыл папку и бережно вынул из нее гравюру, лежавшую сверху. Очевидно, тема Евы была у него разработана.
— Это рисунок монаха из Лимбурга. Пятнадцатый век. Ева в раю. Она еще девственница: змей еще не искусил ее заветным яблоком. Но обратите внимание: вся она тонкая, легкая, грациозная, однако живот как у беременной. Гегель объяснил бы эту особенность мечтой художника о подъеме народонаселения в маленькой его стране. Разве не схожим образом объяснил он свиные туши и прочие яства у Иорданса и Снайдерса победой Нидерландов над Филиппом II Испанским? Так возникла традиция. В живописи Яна Ван Эйка наша прародительница также появляется как бы беременная. И у Лоренцо ди Керди с Венерой, но и эта — Ева, та самая, которая вышла из-под пера лимбургского монаха, у Боттичелли в «Трех грациях» такие же формы, особенно у крайних: Ефросины и Аглаи. Средняя, Талия, стоит к нам спиной, но если бы она повернулась... Грация Ефросина, по всей вероятности, писана с Симоны Веспуччи, а если это так, то она была боттичеллиевой мечтой. Это с нее писал он впоследствии свою знаменитую Венеру.
Итак, вкус к женщинам с подчеркнутым чревом держится, как видите, довольно долго, чуть ли не столетия.
И вдруг появляется Микеланджело. Разрозненные итальянские города ведут борьбу с гораздо более сильной Испанией. Эта держава захватила Неаполь и Сицилию, разгромила Рим и осадила родину художника — Флоренцию. Микеланджело защищал свой город с оружием в руках. Но гораздо большую пользу принес он тем, что создал идеал итальянского юношества. Появляется статуя Давида, который вышел на поединок с Голиафом и победил его. Естествен вопрос: какой же должна была быть итальянская девушка той эпохи? Микеланджело ответил и на это: он создал Еву.
Тугендхольд со страшной силой выхватил из папки цветное изображение обнаженной женщины: гнедая кудрявая грива падает ей на широкие плечи; небольшие крепкие груди; втянутый мускулистый живот, могучее бедро; ноги, где щиколотки — не просто кости, а мослаки...
— Какая сила, а? И потом вот что: голова ее взята почти в том же ракурсе, что и голова Давида. Это гордый поворот упрямства и отваги. А выражения лиц... Они схожи. У Давида легкий испуг преодолевается сознанием того, что он вынужден, должен, обязан выйти на смертельный бой с чудовищем. В облике его опасение сталкивается с волевым началом. У Евы то же самое — глаза широко раскрыты от страха, и в то же время в них отчаянная смелость: будь что будет, а она все-таки нарушит запрет господа бога и вкусит от заветного плода. Вот вам уже совершенный разгром вкуса, завещанного художникам Европы немецким монахом. С его точки зрения эта женщина — образец безвкусицы. Но итальянское общество окунулось в большие события, и возник новый эстетический взгляд на искусство, новый идеал женственности.
— Простите, но ведь Мнкеланджело — человек Ренессанса. Значит, он перекликается с античностью!
— Ну и что же?
— Кажется, я говорю глупости, но мне думается...
— Что Ева всего лишь вариация Венеры? Ну нет! Вот вам Венера и вот сикстинская Ева. Венера действительно богиня. Любая черта в ней идеальна. При этом Венера холодна, как мрамор, из которого она высечена. А Ева? Эта жива каждой своей жилкой. При всей наивности ее, при всем ее неведении, в ней беспредельный секс. Перед нами деревенская девка из тех, к ногам которых падали князья и герцоги. Жутко сказать, но, при всем моем преклонении перед Венерой, я пошел бы на край света за... Евой.