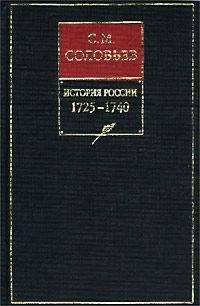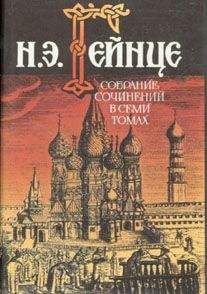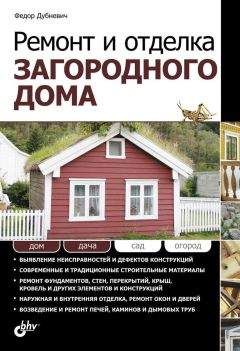Николай Гейнце - Генералиссимус Суворов
«Господин генералиссимус, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский.
Дошло до сведения моего, что во время командования вами войсками моими за границею имели вы при себе генерала, коего называли дежурным, вопреки всех установлений и высочайшего устава, то и удивляюсь оному, повелеваю вам уведомить меня, что вас побудило это сделать».
Этот рескрипт и вообще немилость государя объявили больному не сразу, но он все же продолжал путь под гнетом непонятной опалы.
Первые дни он, хотя с трудом, но выносил дорогу. Потом это ему сделалось не по силам, и он принужден был остановиться в деревне, невдалеке от Вильны. Лежа на лавке в крестьянской избе, он стонал в голос, перемежая стоны молитвами и жалея, что не умер в Италии. Однако припадки болезни мало-помалу стихли, больного опять положили в карету и повезли дальше.
Опальный генералиссимус въехал в столицу как бы тайком, медленно проехал по улицам до пустынной Коломны, остановился в доме Хвостова на Крюковом канале, между Екатерининским каналом и Фонтанкою, и тотчас слег в постель.
Поворот в отношениях к нему государя хотя и был внезапен и крут, но в описываемое нами время не неожидан.
В царствование Павла Петровича завтра не было логическим последствием настоящего дня. Беду нельзя было предвидеть, и она налетела внезапно, без предваряющих симптомов. Никто не был уверен в завтрашнем дне.
Очень многие государственные люди, не исключая пользовавшихся долгою благосклонностью государя, держали наготове экипаж, чтобы отправиться с курьером по первому приказанию.
Подозрительность и недоверчивость Павла Петровича была так велика, что ее не мог избежать решительно никто, без исключения. Раздражительность государя тоже высказывалась так неожиданно и вследствие таких поводов, которые, по-видимому, ничего не значили.
Однажды происходил развод на сильном морозе. Проходя мимо князя Репнина, Павел Петрович спросил у него:
— Каково, князь Николай Васильевич?
— Холодно, ваше величество! — отвечал Репнин.
Когда после развода поехали во дворец и Репнин хотел, по обыкновению, пройти в кабинет государя, то камердинер остановил его, сказав:
— Не велено пускать тех, кому холодно[20].
Александр Васильевич подвергся только общей участи, попав внезапно под опалу, и если опала его была явлением особенно заметным, то единственно потому, что он сам был человек особенно заметный и имя его гремело в Европе.
Тотчас по приезде Суворова в Петербург в дом Хвостова явился от государя князь Долгорукий, но, не будучи допущен к Александру Васильевичу, оставил записку, в которой было сказано, что генералиссимусу не приказано являться к государю.
Когда Суворову осторожно было доложено об этом, он заметил с горькой улыбкой:
— Все к лучшему. Мне бы и некогда было зайти к нему. Я спешу к Богу.
XX. Здесь лежит Суворов
Суворов действительно спешил к Богу.
Болезнь шла быстро, приближаясь к роковому концу. Изможденное тело обессилело в борьбе с надвигающеюся силою смерти, и лишь живой дух боролся до конца, временно даже оставаясь
победителем. Во время этих побед — коротких промежутков — Александр Васильевич, по-видимому, поправлялся, его поднимали с постели, сажали в большое кресло на колесах и возили по комнате.
Он спал уже не на сене, и обеденное время назначено было не утром, а во втором часу дня. Чувствуя себя лучше, Суворов то, по примеру последних лет, продолжал заниматься турецким языком, то разговаривал с окружающими о делах государственных и военных. Никто, однако, не слышал от него ни упреков, ни жалоб относительно немилости государя.
Память, впрочем, стала изменять ему. Хорошо помня и верно передавая давнее прошлое, он сбивался в изложении последних кампаний и забывал имена побежденных им генералов.
Павел Петрович, узнав об отчаянном положении больного, прислал генерала Багратиона с изъявлением своего участия.
Было светлое майское утро.
Багратион вошел в комнату больного Суворова в сопровождении графини Натальи Александровны Зубовой. Весенние солнечные лучи с трудом пробивались сквозь опущенные шторы и занавеси комнат и полуосвещали постель, на которой лежал больной старец. У постели молча, сидели Аркадий Суворов и доктор.
Багратион обратился к последнему и тревожно прошептал:
— Как больному?
— Тело окончательно разрушается, но дух еще бодр, — отвечал тихо доктор, — дайте мне полчаса времени, и я с ним выиграю сражение.
— Но есть ли надежда на выздоровление?
— Никакой!
Генерал Багратион заглушил глубокий вздох, вырвавшийся из его груди, так как в это время больной несколько раз пришел в себя и потухающими глазами стал вглядываться в своего любимца. Вдруг он оживился, узнал его.
— А!.. Это ты, Петр? Здравствуй.
Багратион молчал, пораженный тяжелым зрелищем живого трупа, каким выглядел Александр Васильевич. Последний продолжал после минутной паузы:
— Приходится расстаться, Петр. Ну, да я пожил довольно. Свое сделал. Помнишь Кинбурн, Рымник, Измаил?
— Можно ли забыть имена, которые вы обессмертили, — ответил Багратион.
— Да, да. Хорошее было время. Я все помню. Как теперь вижу. Но в Италии… Там дело не окончено. Идти надо в Геную, бить врага по-русски!.. Князь Петр, гони врага, разбей его. Разбей непременно! Мой пункт — Париж. Спасем Европу!.. А где Михайло? Где Милорадович? Скажи ему: лицом к врагу! С Богом!.. Слава… Мы русские!
Начался бывший с ним последнее время боевой бред. Доктор стал натирать больному виски спиртом. Суворов замолчал, а через несколько минут опять очнулся.
— Что государь? — спросил он Багратиона.
— Он прислал меня узнать о вашем здоровье, — отвечал Багратион.
Александр Васильевич оживился, хотел было приподняться, но силы изменили ему, и он лишь слабо проговорил:
— Поклон мой в ноги царю, до сырой земли. Благодарю,
поклон в ноги. Скажи… Ох! Больно!
Больной громко застонал. Начался снова горячечный бред. Генерал Багратион со слезами на глазах поцеловал сморщенную, высохшую руку полководца и вышел.
Визит Багратиона, как слабый знак милости государя, оживил больного, и болезнь дала ему несколько дней роздыху.
На другой день приехал доктор Гриф, первая знаменитость того времени, и стал ездить каждый день по два раза, каждый раз объявляя, что он прислан императором. Это больному доставляло видимое удовольствие.
Посещали Александра Васильевича и другие лица из родных и знакомых. Это не было запрещено.
Приехал Растопчин с орденами, пожалованными Суворову французским королем-президентом. Александр Васильевич обрадовался гостю, но недоумевал:
— Какие ордена? Откуда? Не понимаю. Откуда французские ордена?
— Из Митавы и присланы королем.
— Из Митавы? — переспросил Суворов.
— Да. От короля.
— Французскому королю следует быть в Париже, а не в Митаве.
Жизнь все же медленно потухала. С каждым днем слабела память, и учащался бред; на давних, затянувшихся ранах открылись язвы и стали переходить в гангрену. Невозможно уже было обманываться насчет близкого исхода. Стали говорить умирающему об исповеди и причастии, но он не соглашался.
Ему не хотелось верить, что жизнь его кончалась. Зная его благочестие, близкие люди не унывали и наконец, убедили. Суворов исполнил последний долг христианина и прощался со всеми.
— Долго гонялся я за славой — все мечта, — сказал он,—
покой души у престола Всемогущего.
В тоне его голоса было столько веры и чувства, что слушатели прослезились.
Однако то, чем он жил на земле, не могло оставить его сразу и при переходе в вечность.
Наступила агония — больной впал в беспамятство. Непонятные звуки вырывались у него из груди в продолжение всей тревожной предсмертной ночи, но и между ними внимательное ухо могло уловить обрывки мыслей, которыми жил он на гордость и славу отечеству. То были военные грезы — боевой бред. Александр Васильевич бредил войной, последней кампанией и чаще всего поминал Геную.
Стих мало-помалу и бред. Жизненная сила могучего человека сосредоточилась в одном прерывающемся хриплом дыхании, и 6 мая 1800 года, во втором часу дня, он испустил дух.
Последние слова его были:
— За мной, вперед!.. Бей!.. Коли!.. Ура!.. Победа!..
Тело набальзамировали и положили в гроб, обтянули комнату трауром, вокруг гроба поставили табуреты с многочисленными знаками отличий.
Суворов лежал в гробу со спокойным лицом, точно спал, только белая борода отросла на полдюйма.
Скорбь была всеобщая, глубокая. Не выражалась она только в официальных сферах. «Петербургские ведомости» не обмолвились ни единым словом; в них не было даже простого извещения о кончине генералиссимуса, ни о его похоронах. Несмотря на это, печальная весть с быстротою молнии разнеслась по Петербургу, и громадные толпы народа, вместе с сотнями экипажей, запрудили соседние улицы. Не было ни проезда, ни прохода. Всякому хотелось проститься с дорогим для России покойником, но далеко не всякому удалось даже добраться до дома Хвостова.