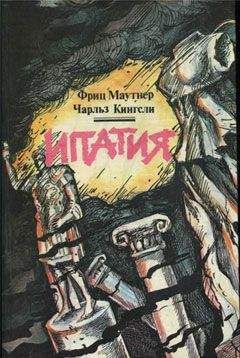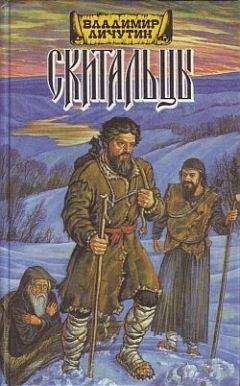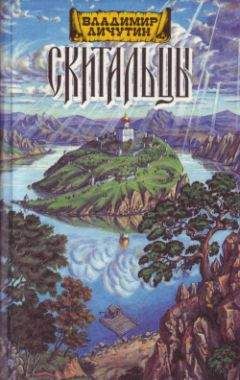Владимир Личутин - Скитальцы
– Батя, поди ищи дочь, – сказал Яшка и заплакал, жалобно всхлипывая.
– Убери сопли-то, нюня.
Петра набросил полушубок и отправился искать: но разве впотьмах скоро наткнешься на человека, который решил затаиться? Обошел поветь, окрикивая дочь: сначала ласковыми словами хотел ублажить, после в худых душах заматерился, когда спичкой деревянной, где упряжь прежде висела, рассадил лоб и, наверное, до краски, ибо защипало и потекло. А мороз палил, Боже милостивый, в исподники сразу холоду набилось, и испитое тело скоро закоснело, затомилось. Попала бы Тайка в ту минуту, нещадно бы застегнул. За лучиной бы вернуться, запалить бы ощепок березовый, но уже тревога закралась в сердце, и постановил себе Петра: торопиться надо, душа велит торопиться. Не на волю же подалась? Чего бабе на улице делать середка ночи? Но ворота распахнул. Снег голубел, искрился слегка, луна была молодая, крохотная и светила младенчески робко. Подумалось: в такую ночь и умирать сладко: лег, глаза призакрыл – и не встал боле. Говорят, в снегу умирать желанно.
Другой бы, наверное, не подумал отыскивать страдалицу на задах, в огороде. Лишь отец мог понять дочь, ее умысел и пойти по наитью. Таисья лежала на снежной целине, слившись с нею, уже припудренная инеем, и лишь алые намышники на исподней рубахе выдали женщину. Как побитая, кинутая всеми собачонка, свернулась она клубком и не ворохнулась даже, когда, скрипя по насту, шумно явился Петра. Он поднял дочь на руки, подивившись ее заматерелости, и понес в дом, как чужую, незнаемую женщину. Что и куда подевалось от прежней Тайки, алой клюквины на белом снегу, которую он так любил, бывало, тетешкать на колене и подыгрывать ее радостному заполошному смеху.
Петра повалил Таисью на печь, укрыл тулупом: но дочь стала биться, срывать окутки. Скоро взялась она крутым огнем и впала в горячку.
За неделю до Рождества бабушка Соломонея приняла от нее мертвенького. Явился староста, засвидетельствовал: крохотный сморщенный кусок плоти, ничего пока человечьего. Завернули в холстинку, пошел Петра на огород, работнику не доверил. Смеяться, поди, будет, а то и пхнет просто в снег, а там растащат, разорвут собаки. Схоронить надо, предать земле, откуда попытался взрасти росток: проклюнул на свет полдневный, а сил не хватило укрепиться, подуло засиверком, и свернулась травина, скоро осыпалась прахом. Все из праха, и все в прах. Не на кладбище же нести, не долбить же мерзлую землю на жальнике, но и скотине не бросишь на потраву: суеверно и боязно.
Пошел Петра на зады избы на репища[65] , снег лопатой убрал, пробил пешней дырку, как дупло в закаменелом древесном теле, и укрыл нежившее тельце в землю. Внуком бы оно могло быть, бегать по земле, баловать и тешиться, за сохой бы встал, надеей, укрепой вырос бы и глаза бы закрыл матери старой, как пришла бы пора ложиться на погост. Все могло бы случиться, кабы не судьба, кабы Бог досмотрел и вдохнул дух в сморщенную багровую плоть.
Заровнял Петра могилку, скрыл снегами недозрелый плод, коий скатился с ветки до времени, подточенный скрытной плодожоркой.
И отчего-то заслезился Петра Афанасьич, – может, снегом подбило глаза? – но такое было чувство, словно себя схоронил. И смерть своя вдруг представилась совсем близко.
Но пока не настигла старуха с косой, дал себе Петра Афанасьич тайный обет, который надлежало вскорости исполнить.
Глава седьмая
Свищут ветры, седые клочья облаков разметая по небу, вьются зимними тоскливыми полями, вихорем встают над луговинами, заметая одинокие следы, тешатся над сиротливой лошаденкой, едва пробивающей след, путают ноги, заливают сырою водою заиндевелые ноздри, и оттого тужится, хрипит кобыленка, с трудом протаскивая розвальни.
Шепчет, шепчет сам себе зазяблый путник, а то и закричит то ли кобыленке, то ли духу своему на укрепу, а голосишко не толще посекшегося волоса; и подхватит его ветер, кинет в забои, в слепые снега – и пусто; ни ответа ни привета на весь мир. А зябко, а хладно, совик не спасает, в тобоках ноги стучат, как два песта, ничего уж в них живого, а в теле жилы стянуло, будто балалаечные струны: сейчас сбренькают и запоют. Тпру бы крикнуть, брюхо подвело, надо лошадку остановить, но губы не слушаются: заморозило губы, завязало язык, и что-то вроде стона вытянется из почернелой глотки.
Какое царство теней и стужи; кажется, насквозь окована земля и никогда уже ей не оттеплеть. И человечишке ничтожному нет спасу на сем миру, не укрыться от хлада, не сберечь бренную, жалкую плоть, едва прикрытую одежонкой. Так и кажется, как беспутных шальных тараканов сживет Морозко людей со свету и на расплод не оставит. Ан нет, не под силу это ему. Поморянину бы угол добро конопаченный, да каравашек ситного, чтоб не переводился, да на мясоед, коли удача, баранью похлебку досыта, да коли грош завелся, чтоб разговеться косушкой водки иль стаканом мадеры.
И вот он, Сочельник: снег шелестит, почти невесомый, он будто бы не спадает с небес, а подвешен на длинных нитях, и едва уловимым дуновением полдника раскачивает его, и нет этому движению конца. И тихо так, точно сама мать-земля за снежными полотнищами прислушивается к чреву своему, где идет пробужденье, где зреет-выспевает весна. И посту край, конец капустным щам и киселям, редька обрыдла, репа в горле стоит, так мясца захотелось, скоромного, смазать утробушку, что ссохлась, будто заячиное горлышко. Рожай, рожай, мать-земля пресветлая.
Вышел Петра на порог сеней с ложкой киселя, выплеснул на двор, сказал:
– Мороз, мороз! Приходи кисель есть. Мороз, мороз, не бей наш овес, лен да конопли в землю вколоти.
Не потерялся, не зазевался, не замедлил нос свой сунуть прохиндей Клавдя, нынешняя последняя надея и сердечная Петрина утеха. Если припомнить, от Павлы затеялся он когда-то как забава, без всякой надежды, азарту и умыслу, и смотри ты, на пустом месте зародился головастик, коему прозванье – сын. Нажористый, дьяволенок, за столом мечет пуще взрослого, характером – вьюн парнишко, на месте не усидит, часу лишнего на полатях не выспит, зря ноги не растянет, палкой не уложить, и упаси Боже, чтобы реветь, захлебываясь соплями.
Вот и сейчас сунулся:
– А это че, это че? Приманка иль обманка?
Все в деле, в заделье каком-то, такой ли оголец, все чего-то мудрствует, напрягает умишко, словно бы постоянное соображенье живет в человеке и не дает покоя. От такой породы обыкновенно иль широкой, деятельной натуры выходит человек, иль, напротив, атаман-разбойник лютых кровей, у кого в мирной жизни что-то не сладилось, и оттого душа как бражный лагун: не дай ходу хмельной силе, тут и затычку в потолок.
Уши у Клавди лопухами, прозрачные, и как бы сквозь светится тонкая кожица; такое чувство: вот заведи мальца в самую темень, их и там узришь; волосы мышиные, с зализом на макушке; один глаз светло-зеленый, другой – темно-серый; в общем, пестрый парнишко, с постоянно полуоткрытым от любопытства ртом.
– Закрой хлебало-то, – бывало, заметит Петра, осердясь, – ворона залетит.
– А я ее сырком съем...
– Ну ты и гаденыш! – поймет намек Петра.
И так весь разговор, по какому бы поводу ни завелся он. Будто бы игра старого с малым, но порой злая, и не раз уже испробовали Клавдины ягодицы деревянной каши.
– Ну, дак как каша наша? – спросит Петра, уже не сердясь.
– А каша в самую пору, маслица бы конопляного ленуть, – ответит сын, протирая рукавом набухшие, но непролившиеся глаза.
– В следующий раз разбавлю березовым соком, – пообещает Петра, намекая на березовую вицу.
– Только пожиже, а то скусно больно.
Ну что с таким арапчонком попишешь: рассмеешься только и руками разведешь. А в сердце досады ни на мизинец, но лишь непонятное теплое веселье, незнаемое ранее. Сын, так сын и есть: то тебе не девка-аржануха, житняя колобаха, у которой ум впоперечку, а чуть обнадейся, она тебе такую плепорцию устроит, что и в жизнь не расхлебать.
В Сочельник отмякло чуток, снегами отбило каленый мороз, попритушило, но все одно опасно лошадей к майне гнать, поить скотину из ледяного корыта: ненароком охолонут, прохватятся, будут черева тоскнуть. Потому захребетнику надо воду греть да кобылиц в денниках поить.
– Смотри мне, чтоб лошадей на застудить. Уши пообрываю! – кричит Петра с крыльца, намереваясь и сам быть в конюшне: для того серый холщовый кабат[66] натянул поверх меховой потянушки.
– Не впервой, бат, сам знаю, – отговаривается конюх.
А Клавдя рядом с отцом стоит, как приказчик, и пальцем грозит:
– Как чирьяк раздавлю, посмей-ко на худо!
– Петрухич вонькой... От горшка два вершка, а туда же морду воротит... квашня косорылая, – бурчит работник, но не настолько громко, чтоб услыхали: кто знает, куда жизнь повернет. А захребетник с хозяином не борись, норов свой смири и гнев утишь, ибо как поведешь себя, таково и счастье твое. Да и сейчас полегче, пока зима: лошади в обозе, на Канин ушли за навагою, там с аргишей[67] перегрузят на подводы дерюжные кули с рыбою и, пока дороги не растеплило, отправятся до Москвы и Питера, до тамошних торговых рядов. А ходу туда поболее месяца...