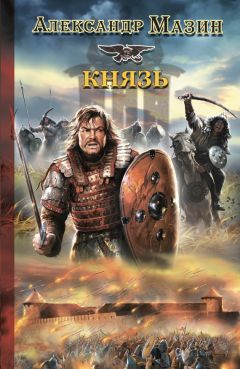Маргарита Разенкова - Девочка по имени Зверёк
Лусия хотела большего:
– Ты не говоришь – почему?
Вероника молчала, но вступилась мать Тересия:
– Какая бы ни была причина, Вероника раскаялась. Встань, дитя мое, и займи свое место. Надеюсь, ты вынесешь это на ближайшую исповедь? Верно?
Вставая, Вероника кивнула.
* * *В сиесту предстояло отправиться на беседу к падре Бальтазару. И Вероника все утро, копаясь в земле в травяном садике, думала лишь об этой намеченной встрече.
Вообще-то, она не очень любила работу на грядках, искренне полагая, что, если не мешать растениям, они и сами будут расти. Следует лишь время от времени поливать их. Но приходилось делать и многое другое: пропалывать, окучивать, рыхлить, – все это изрядно ей докучало. Но Вероника приучила себя молиться или мечтать. О, мечтать-то она умела! А в это время руки сами совершали что положено.
Сегодня же Вероника думала лишь о предстоящей беседе с падре Бальтазаром – думала и во время обеда, и работая в саду. В тот день, когда Леонора только привезла ее в монастырь, падре сказал: «Ты можешь обращаться ко мне, когда будет нужда». И она неоднократно подумывала об этом, но ее всегда останавливала мысль: вот сейчас – действительно ли это нужно? Ведь еще «тогда» (в неуловимом теперь, далеком прошлом) она твердо усвоила, что беспокоить Учителя можно лишь в случае действительной необходимости, реальной нужды, или – он позовет сам. Именно поэтому ее не оставляли колебания. Вероника не подходила даже к исповеди, что у многих могло вызвать вопросы, хотя для воспитанницы, не монахини, частая исповедь не была обязательной.
Но теперь он звал ее сам. Она немного волновалась. У самой двери его комнаты, уже подняв руку, чтобы постучать, Вероника остановилась и замерла в окончательной нерешительности. Сколько она так простояла бы, неизвестно, но из двери, толкнув Веронику плечом, вышел монах и, возможно из-за неожиданности столкновения, громко попрекнул ее. Из двери показался падре Бальтазар и, строго взглянув на монаха, жестом пригласил Веронику войти.
Тихое полутемное помещение уже было ей знакомо и, так же, как в первый раз, вызвало приятные чувства. И еще здесь можно было отдохнуть от изнуряющей жары: сухой полуденный воздух, казалось, совсем не проникал в узкие окна. Вероника облегченно вздохнула, она больше совсем не волновалась.
– Подойди ко мне, дитя мое, – прозвучал в прохладной тишине негромкий голос.
Она подошла и склонилась под благословение. Священник благословил и предложил ей сесть, обведя широким жестом все помещение. Она остановила свой выбор на скамеечке возле самого камина, которая уютно соседствовала с большим деревянным креслом. Маленькая скамеечка и кресло с высокой спинкой составляли удивительно гармоничную пару. Падре Бальтазар кивнул с видимым одобрением и, улыбнувшись, устроился в кресле. Некоторое время они молчали.
– Зимой прохлада этой комнаты причиняла бы дискомфорт, если бы не этот старый камин, – заметил он.
Теперь улыбнулась и кивнула Вероника, представив себе, как звонко должны трещать в камине поленья долгими зимними вечерами и как весело могут плясать блики огня на стенах.
Потом они разговаривали. И как-то очень быстро, задавая меткие вопросы, падре узнал, как она росла, с кем дружила, как крепко любит отца и брата и как скучает теперь по Антонио, как своевременно Леонора определила ее в эту обитель и многое-многое другое. Например, то, что еще в детстве научилась читать и писать и почерк у нее красивый и разборчивый. Тут падре улыбнулся и негромко пропел, на манер уличных куплетов:
Научили деву в юности писать —
Видно, что монашкой ей судили стать!
А потом, неожиданно для самой себя, Вероника поведала ему, что когда-то очень давно у нее были и другие родители, а еще – друг, которого она очень любила и по которому порой сильно скучает, почти как по брату, а может, и больше. При этом Вероника и боялась и ждала удивленных вопросов падре, но он ничего не спросил. Лишь неотрывно смотрел на нее и все больше серьезнел, и все более внимательными становились его глаза.
Наконец она умолкла. Молчал и падре. И Вероника вдруг испугалась, что и он (он тоже, как все!) примет ее за помешанную или испугается ее странных рассказов и строго велит забыть кажущиеся бредом «воспоминания» о жизни «тогда», «там», с теми «другими» ее близкими людьми. Но падре не говорил ни слова и все смотрел на нее задумчиво. Потом спросил:
– Давно ли тебя посещают эти загадочные видения?
– У меня нет загадочных видений, – заторопилась она объяснить, – я…
– Хорошо, хорошо, – прервал он ее. – Скажем так, давно ли у тебя появились мысли об этой «другой» твоей жизни?
– Они всегда были со мной, сколько я себя помню. Раньше их было даже больше, значительно больше! Но когда я была маленькой, меня за них ругали, пугали инквизицией и приказывали забыть… ну, не думать эти мысли… и я, кажется, стала забывать… – Она вздохнула и робко спросила, почти уверенная в его утвердительном ответе: – Вы тоже велите мне выкинуть все это из головы?
– Нет, Вероника, – неожиданно ответил он, – нет. Все это крайне интересно. Это похоже на… Впрочем, я еще подумаю.
– А может быть, это действительно болезнь? – скорбно вздохнула она. – Почти все так думают.
Падре не отвечал.
– Тогда, наверное, ты знаешь, как это лечится. Ты вылечишь меня?
– Все, что я велю тебе сейчас, – больше ни с кем никогда не говорить об этом. Ты поняла?
– Да, Учи… то есть, падре. Да, падре.
– Кстати, а почему ты пытаешься называть меня, несколько странно, Учителем и все путаешь «ты» и «вы»?
Вероника удивленно взглянула на него: шутит? Падре Бальтазар улыбался, и она решила – да, шутит.
– Я не забыла тебя.
– То есть ты хочешь сказать, что…
– Что я помню, кто ты.
– И я?..
– Мой Учитель.
После этого падре долго размышлял, низко склонив голову и не глядя на Веронику. И она опять начала опасаться, правильно ли ответила. Впрочем, что же еще она могла ответить?
Наконец, проводив до самых дверей, он отпустил ее и велел приходить в это же время каждый четверг. И долго (Вероника чувствовала!) смотрел ей вслед, пока она удалялась по коридору. Лишь повернув за угол, Вероника услышала стук закрывшейся двери. Ее немного смущало, что он ничего толком не сказал о ее «воспоминаниях». Но ведь он не велел и забывать их! Уже одно это само по себе вызывало тихий умиротворяющий восторг. К тому же было ясно, что он не счел ее больной!
Вероника так устала опасаться окружающих, быть начеку, чтобы не проговориться и лишний раз не подвергать опасности ни родных, ни себя. Ей так хотелось довериться хотя бы одному человеку! Довериться полностью, безоглядно, без сомнений и колебаний. А падре Бальтазару отчего-то было приятно доверять, и она решила, что, пожалуй, не станет скрывать от него ничего.
* * *Итак, каждый четверг! В предвкушении этого дня Вероника и не заметила, как пролетела целая неделя. Она, разумеется, видела падре Бальтазара на богослужениях, да к тому же не забыла вынести на исповедь свое сокрушение о совершенном проступке (опоздании к мессе). Но одно дело – видеть его, как и все остальные, другое – слушать Учителя (про себя она продолжала его так называть) в беседе, предназначенной лично для тебя!
В четверг, с самым началом сиесты, она уже неслась по коридорам к комнате падре ног под собой не чуя! И непременно поспела бы вовремя, и даже раньше, если бы не услышала странные звуки: смесь неприятного назойливого бубнения и жалобных всхлипов – из полутемного коридорчика-тупика, ответвляющегося от основной галереи. Вероника не успела даже поразмыслить, как ноги уже сами понесли ее в сторону этих всхлипов. Странным образом она сразу заподозрила, что именно так, тоненько и беззащитно-обреченно, может плакать Анхелика.
Вероника не ошиблась. Картина, представшая взору, сначала ошеломила ее до немоты, а затем повергла в ярость: Анхелика была зажата в углу массивным торсом старшей сестры, которая жадно обнимала и бесстыдно шарила руками по всему телу несчастной Анхелики, низким, каким-то жабьим голосом читая «нравоучение»:
– В этом нет ничего дурного, сладенькая моя! Уверяю тебя. Ведь истинная любовь жаждет близости. Послушай меня, моя овечка, и будь со мной ласковей!
Громко, не скрывая отвращения к Лусии, Вероника проговорила, чеканя каждое слово – не из намерения напугать, а просто потому, что иначе у нее задрожали бы от омерзения губы:
– О, позволь и мне, сестра моя, получить твои драгоценные наставления в том, что касается любви! Ведь речь пойдет о христианской любви, верно?
Если бы в сумрачном коридоре раздался пороховой залп или удар грома, Лусия, кажется, не испугалась бы больше. Она отскочила от бедняжки Анхелики с проворством, которое Вероника не могла и предположить в такой далеко не изящной фигуре. Неприкрытой ненавистью полыхнуло в глазах старшей сестры. Но – о, боже! – какой свет облегчения, радости и надежды вспыхнул в заплаканных глазах Анхелики!