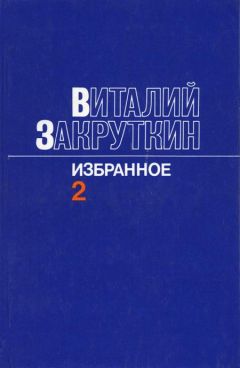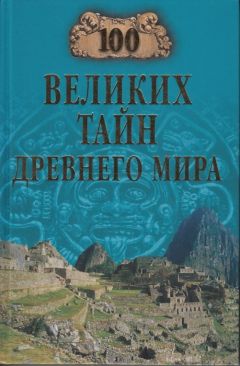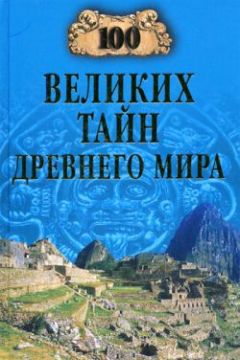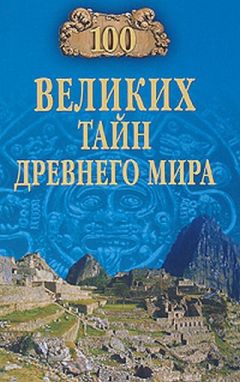Петр Сухонин - На рубеже столетий
— О государыня, да разве я могу что-нибудь говорить против слов ваших, разве я могу возражать? Я своей жизни не пожалел бы на то, чтобы снять чьи бы то ни были страдания, если в них я сколько-нибудь виноват, не только если эти страдания могут касаться моего отца. Но с моей стороны могло к нему обратиться слово сочувствия. Оно явилось бы и могло бы ему представиться моим заискиванием перед его богатством и знатностью. Между тем, верьте Богу, государыня, как ни тяжка мне мысль об этом заключении, но даже такое заключение я бы предпочел положению, в котором я должен был бы жить подарками и помощью своего отца!
— Ты не будешь поставлен в это положение, Чесменский. Даю тебе это слово! Только с истинным сердцем и полною откровенностью своей молодой души взгляни на дело, как оно есть, не задаваясь ни задней мыслью, ни предвзятыми сомнениями. Пойдем со мной!
Между тем граф Алексей Григорьевич сидел и ждал государыню опять в бриллиантовой комнате.
"Она приказала мне прийти сегодня пораньше, — думал граф Алексей Григорьевич, — я и явился ни свет ни заря, а ее нет и долго не выходит. Верно, занята своим случаем! Ох, уж эти мне случаи!"
Граф Алексей Григорьевич забыл, как он случаем своего брата Григория Григорьевича пользовался.
"Я, кажется, не опоздал, — сказал себе граф Алексей Григорьевич, посматривая на свой брегет, — Захар Константинович, кажется, не носил еще кофе. Вот как опоздаем, так она любит за то выдержать. Пожалуй, целый день продержит. Но я не опоздал, а ее все нет! Она сказала, приходи до народу, а то после вздохнуть не дадут, ну я, кажется, до народу. Впрочем, говорят, Рылеев уже здесь! А она все еще не выходит!
Может быть, Зубов нарочно ее задерживает, чтобы заставить меня почувствовать… Хоть кажется, уж ради собачьего ошейника и лошадиного чепрака он должен быть бы ко мне внимательным. Может, говорит, к терпению приучать нужно! Ладно! Я терпелив, где нужно, как быть? Подождем!"
И Орлов расхаживал по комнате широкими нетерпеливыми шагами.
В это время государыня вошла.
— Я привела к вам блудного сына, граф Алексей, который захотел с любовью и раскаяньем взглянуть на отца, вспомнив завет заповеди Божьей: "Чти отца своего!"
Граф Алексей Григорьевич, несмотря на всю черствость своей натуры, задрожал, руки у него как-то сами вытянулись вперед, слезы невольно покатились по щекам.
— Саша, Саша, неужели ты и в самом деле думал, что я тебя хочу со свету сжить? — спросил он, сам не зная, что говорит и что спрашивает.
Перед ним стоял молодой человек с прямым, откровенным взглядом, ясным выражением лица и сердечной добротой во всем существе, во всей своей фигуре.
— Батюшка, мне больно было думать это!
— И не думай, мой милый, не думай, мсти мне, если хочешь, убей меня, я тебе сделал много зла, но не думай, что хоть одну минуту я тебе зла желал! Ты мой родной, единственный… — И он охватил сына своими могучими объятиями, склонил свою голову на его плечо и зарыдал, глухо зарыдал, как ребенок.
У Чесменского тоже слезы невольно катились из глаз. Государыня исчезла. Она своим словом сделала дело: помирила сына с отцом.
Потом она говорила: вот и говорите после того что хотите об отсутствии влияния родственных чувств. Чем объяснить мое удачное примирение ненавидящих друг друга сына и отца? Ясно — единственно симпатией крови! В их и ненависти-то была взаимная любовь и уважение детей к родителям и страстная, слепая любовь родителей к детям. Против такого отрицания дает опровержение сама природа. Да и я сама. Сколько огорчений принес мне Алеша своей безалаберностью, мотовством, подчас несоответственною скупостью и жадностью. Сколько долгов я переплатила за него. А все он мне мил и дорог, во всяком случае дороже всех. Почему, я не знаю. Может быть, по воспоминанию о самом счастливом периоде моей жизни, когда его отец Григорий Григорьевич именно осчастливил меня своей преданностью. Да, нечего сказать, и брат его Алексей Григорьевич, хоть и великий плут, но мне всегда был истинно предан, ну и отец крестный моего Алеши. За то вот я его и отблагодарила, возвратив ему сына. Я очень рада, что удалось!..
Глава 5. Подозрительность всего боится
Между тем почти недельное, уединенное пребывание Чесменского во дворце, многократное приглашение его в собственные покои государыни, беседование с ним глаз на глаз и вообще таинственность, какою самое пребывание его и эти беседы окружались, страшно волновали так величаемый тогда новый случай: светлейшего князя Платона Александровича Зубова.
Зубов был человек весьма еще молодой, лет на пять, на шесть постарше Чесменского, стало быть, лет двадцати четырех — двадцати пяти, не более, но он был уже светлейший князь, вице-президент военной коллегии, вице-председатель конференции по иностранным делам, президентом и председателем была сама государыня; наконец, имеющий право требовать себе отчета по всем коллегиям, по всем управлениям, даже от сената. Приказы его велено было исполнять как бы высочайшие повеления и доносить обо всем, о чем бы он ни пожелал знать. Никогда ни князь Орлов, ни светлейший Потемкин, в самые деспотические минуты своего прошлого могущества, не пользовались такой властью, какою пользовался он, почти неведомый до того бедненький офицерик, а ныне светлейший князь.
Это был господин с мясистым загривком, мускулистыми руками и плечами, напоминающими фигуру Алексея Орлова в молодости, только в уменьшенной, более изящной пропорции. Он отличался красивым, белым, с небольшой ямочкой на щеке лицом, невысоким, узеньким лбом и глубокими, темно-карими глазами, опушенными длинными, черными ресницами и красивою бровью. Человек он был, видимо, малоспособный, зато бесконечно честолюбивый, завистливый и жадный, хотя нельзя также было не сказать: человек холеный, красивый и элегантный.
Его волновало, мучило, смущало то обстоятельство, что вот государыня велела поместить во дворце какого-то явившегося из-за границы мальчика, часто призывает его к себе, а ему, светлейшему князю Зубову, не говорит ни слова.
И вот он, в своем атласном, небесного цвета, шитом серебром и подбитым белым левантином халате, оживленными и быстрыми шагами расхаживает по своим великолепно отделанным апартаментам Зимнего дворца в нижнем этаже, хлопает иногда дверьми, дает подчас тычка прислуге, коли подвернется, и носится из комнаты в комнату, как бурный ветер, хотя парикмахер ждет его светлость убирать голову, официант замер в форме статуи с серебряным подносом, на котором стоит кофейник с горящим под ним спиртом, великолепная сахарница, подарок государыни, из золота с эмалью, такой же сливочник и маленькая чашечка саксонского фарфора из сервиза, купленного после графини Кенигсмарк, знаменитой фаворитки саксонского Августа, подаренного Екатерине прусским Фридрихом, а Екатериною уступленного своему новому, молодому случаю.
"Черт возьми! Неужели я ей наскучил. Тогда скверно, да и то: Потемкин не претендовал, и я претендовать не стану, только надо быть откровенной, а не прятаться по углам! Нужно поговорить с Зотовым, и делать нечего, нужно не пожалеть заставить его развязать язык".
— Попросить ко мне зайти Захара Константиновича! — крикнул он после того, как звук золотого колокольчика оглушил всю комнату, хотя в комнате толпилось вдоволь народу.
Скороход бросился исполнять приказание князя.
— Да убирайтесь вы все к черту! — закричал Зубов, оглядывая парикмахера с прибором, официанта с кофеем и другую прислугу, глазеющую в потолок. — Я нездоров и никого видеть не хочу.
По этому слову все исчезли. Князь выдвинул из бюро ящик с драгоценностями и достал оттуда какой-то футляр.
Вошел старый хмурый камердинер государыни Захар Константинович Зотов.
— Захар Константинович, как я рад вас видеть, почтеннейший, — торопливо и льстиво начал князь Зубов, протягивая ему обе руки, которых, однако ж, тот по непониманию ли, по непривычке ли здороваться, пожимая руки, или по особому упорству не принял, стоя посреди комнаты с поникшей от поклона головой и посматривая на князя как бы исподлобья.
— Вас, почтеннейший, и не заполучить нонче, — продолжал князь, пожимая ему обеими руками плечи, так как тот не протягивал руки, а князю было неловко стоять с руками, протянутыми в воздухе. — Бывало, нет-нет да и зайдете поболтать и распить бутылочку вина со старым приятелем-ординарцем. А нонче Бог знает что с вами сделалось, заспесивились!
Говоря это, Зубов старался притянуть Зотова к креслу и, подавливая на плечи, его усадить.
— Садитесь, садитесь, почтеннейший, гость будете! Чем угощать-то только вас? Вот разве от Леопольде Тосканского привезли мне Локримо Кристи. Чудное вино! Попробуйте-ка!
И Зубов налил из полной, стоявшей на столе раскупоренной бутылки вина в золотой, художественной работы кубок и подал его Зотову.
— Много милости, ваша светлость! Напрасно изволите беспокоиться! — отвечал Зотов. — Наше дело лакейское, можем и постоять!