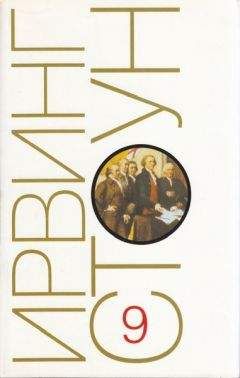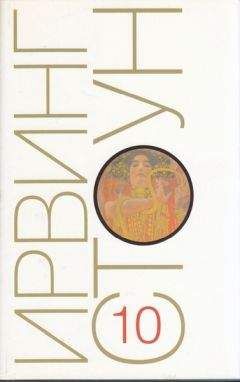Томас Дональд - Маркиз де Сад
Как и в предыдущем веке, Сад стал символом новой революции в искусстве и литературе. За последние пятьдесят лет он коснулся постромантизма Флобера и Бодлера, Суинберна и Д'Аннунцио. В годы после первой мировой войны его взял на вооружение сюрреализм. Такие его лидеры, как Андре Бретон, признавали в маркизе великого иконоборца и, естественно, считали своим союзником. Тот факт, что в свое время Сада отвергли, сам по себе сделал его более приемлемым для нового движения. Сюрреализм включал веру в революцию в сочетании с ненавистью к классическим политическим догмам правых и левых, что произошло после того, как стало ясно, что революционный режим в СССР отверг предложение править на сюрреалистических принципах. Сюрреализм считал своим долгом нарушать наиболее священные догмы буржуазного общества, в этом плане он, как будто, тоже следовал Саду. Выполнять этот долг не составляло труда. Много шума вызвало появление фильма Луи Бунюеля «Золотой век» (1930), в котором садовский герцог де Бланжи выходит из оргий «120 дней Содома» в платье Христа, принятом в традиционной иконографии.
Сюрреализм, подобно любому современному движению, в большей степени интересовался самим собой, чем своими предшественниками. Таким образом, идеи маркиза понадобились для того, чтобы соответствовать этим требованиям. Даже являясь мифической фигурой, он, похоже, в равной степени подходил амбициям и фашизма, и коммунизма. Подобно Ницше, им можно прикрыться для оправдания выживания за счет расового господства в войне природы, использования женщин как объектов авторитарной жестокости, в то время как его герои были всего лишь суперменами, возвысившимися над жалкими ограничениями закона и морали. Более чем прозрачна притягательность идей Сада для коммунизма и его сторонников. Разве маркиз не радовался свержению буржуазии и ее меркантильных ценностей? Разве он, подобно Ленину и Сталину, не показал, что убийство и пытки могут стать средством очищения политического органа? Разве, в свете всего этого, он не стал чистейшим и непреклоннейшим из ангелов социальной справедливости, аристократ, ставший революционером?
Для критиков роль Сада в политике тоталитаризма его последователей сводилась к спасению тирании от превращения в устаревший инструмент реакции, к преобразованию ее в законное оружие мощной революции.
На основании литературного наследия и пережитого опыта маркиза можно сказать, что Сад с презрением относился бы к учрежденной политике, все равно — левой или правой. Так же и строгость его стиля и мысли едва ли подошла бы тому, что представлял собой сюрреализм. Куда больший интерес представляет та дань, которую ему платило это движение, в частности, работами своих художников. В отдельных случаях эта дань приняла форму иллюстраций к его романам, выполненных Гансом Беллмером, или рисунков Леонор Фини к «Жюльетте» (1944) и «Жюстине» (1950). Иллюстрации Фини имеют выраженную женскую эмфазу. В ее работах ярко представлена ярость садовских героинь и жестокость, с которой они подвергались физическому надругательству. Яростная сила подобных иллюстрация также характерна для других современных художников, например, Андре Массону и Гансу Беллмеру.
Другую крайность представляют работы Клови Труия, с почти фотографической точностью воспроизводящие эротические и юмористические стороны творчества Сада. Не являясь иллюстрациями, они представляют попытку связать работы Сада с двадцатым веком. Современность точно схваченной в них иронии не вызывает сомнения. Картина «Подглядывающая» изображает фойе кинотеатра, украшенное плетьми и плакатами с полуобнаженными девицами. На кадре из кинокартины «Загадки де Садома» застыл дворянин восемнадцатого века, опирающийся на череп, с плетью в руке, и выбирающий, кого из нескольких нагих девушек выбрать в качестве очередной жертвы. «Вход тем, кому до пятидесяти лет, запрещен» — гласит надпись в фойе, и молодая девушка с любопытством заглядывает за отодвинутый бархатный занавес над дверью, ведущей в кинозал. Застывший кинокадр на самом деле является второй картиной Труия «Похоть», где садовский аристократ с вожделением созерцает связанных женщин, на которых нет никакой одежды, кроме современных шелковых чулок. На заднем плане видны узнаваемые развалины замка Ла-Кост.
Подобный элемент юмора, хотя и без прямого указания на Сада, присутствует и в фигурках Аллена Джонса, выполненных из стекловолокна и изображающих девушек в виде мебели. «Стол», «Вешалка для шляп» и «Стул» — три работы 1969 года. Первая представляет собой натурщицу в перчатках, сапогах и трусиках, стоящую на четвереньках, со стеклянным листом на спине. Вторая фигурка в чулках и повязкой на чреслах протягивает руки, чтобы на них можно было вешать шляпы. Последняя изображает девушку в положении на спине с поднятыми вверх ногами, таким образом ее тело поддерживает сиденье и спинку стула. Подобные художественные творение, возможно, менее отталкивающие, чем живая мебель на обеде у Минского в «Жюльетте», но сходство поразительно. Действительно, тема женских форм, представленных в виде мебели, уже нашла отражение в сюрреализме еще в тридцатые годы, в том числе и на картинах Дали, включая розовый диван в форме губ Мей Уэст.
Имеется и другое, противоположное, восприятие Сада в искусстве в виде фигуры героического сопротивления, трагического героя, сражающегося с силами репрессии. Среди ряда подобных портретов наибольшее впечатление производят работы Капулетти и Мэна Рея. У Капулетти Сад представлен готовым к сражению заключенным; у Рея Сад предстает в качестве живого монумента, возведенного из того же камня, что и тюремное здание, в котором он содержится. Созданный художником образ подчеркивал для современников посмертную репутацию маркиза как человека беспримерного мужества и неукротимого ума.
В 1939 году, включив отрывок из «Жюльетты» в «Антологию черного юмора», Андре Бретон сделал наблюдение, которое уже не кажется противоречивым. «Только в двадцатом веке, — писал он, — были определены действительные горизонты творчества Сада». В последующие годы опыт тотальной войны и ужасы, заставившие померкнуть жестокости «120 дней Содома», эта оценка получила дальнейшее подтверждение. За это время выяснилось, что маркиз дал ужасающий и точный анализ человеческой психологии. Если Сад и вправду был глашатаем экстремального католицизма, как думал Флобер, то он с беспримерной силой предсказал падение современного человека. Современный взгляд на маркиза как на писателя, который лишь носил маску атеиста, высказал Пьер Клоссовски в своем «Мой ближний Сад». Более пессимистически настроенный Альбер Камю заметил: «… история и трагедия современного мира началась с Сада». Это соответствует истине в том плане, что осознание современной ситуации своими корнями уходит в его литературное наследие.
Опыт Второй мировой войны открыл путь для интенсивного академического изучения Сада. Это была бледная, но честная попытка, по сравнению с яркостью красок и воображения сюрреалистов. Но стопятидесятилетняя история Франции и французской литературы практически начисто вычеркнула его из своих анналов, за исключением коротких ссылок. Упущенное наверстывалось в послевоенной академической науке. Созидательный дух литературы тоже отдавал дань должного, включая таких поэтов, как Рене Шара, романистов типа Жоржа Батая, Реймона Кено и Симона де Бовуар, таких критиков, как Эдмонд Уилсон и Пьер Клоссовски, и академиков уровня Жана Полена.
Все же Сад больше всех обязан своему почитателю Морису Гейне, бывшему в свое время коммунистом, пацифистом и борцом против варварского убийства быков на корриде. Гейне, умерший в 1940 году во время оккупации Германией Парижа, спас от забвения многие рукописи маркиза, опубликовав их в период между войнами. Уйдя из жизни преждевременно, он успел лишь вкратце набросать план биографии Сада, одновременно изучая такие события, как скандал с Роз Келлер и дело о марсельском отравлении. Опубликовать первый систематизированный отчет о жизни маркиза выпало на долю его младшего друга, Жильбера Лели, сделавшего это поколение спустя.
По мере того как ручеек академических исследований, посвященных Саду, разросся в полноводный поток, выяснилось, что многие из ранних работ оказались более зрелыми. Марио Праз в «Романтической агонии» (1933), литературоведческой работе, показал огромное скрытое влияние идей маркиза на европейскую литературу девятнадцатого века. Поставленные после войны на широкую ногу академические исследования жизни Сада, вызывающего неувядаемый интерес, позволяли журналам целые номера посвящать обсуждению его сочинений. Наконец фигура человека, «имя которого не могло произноситься», из анекдота Генри Джеймса стала темой большого филологического коллоквиума в Экс-Марсельском университете. Несмотря на тот факт, что издатель произведений маркиза в 1959 году привлекался к уголовной ответственности, настало время, когда мир мог познакомиться с полным собранием сочинений Сада, причем, без купюр. Даже романы, вызвавшие в середине века различные легальные затруднения, находились теперь в свободной продаже, их экземпляры в бумажных обложках можно было купить на массовом рынке без всяких ограничений. Неужели и в самом деле его творчество имело такое значение для широкой общественности, что даже моральными издержками пришлось пренебрегать? Или отныне это не имело значения?