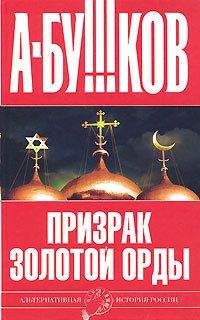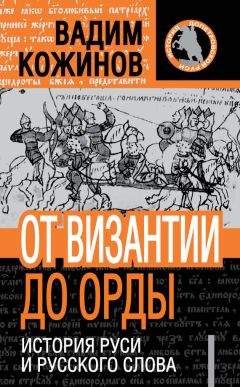Колин Маккалоу - По воле судьбы
Во-вторых, я не выношу Катона и Бибула. Наглецов, подобных этим двум лицемерным комнатным генералам, еще нигде не встречалось. Представь, они анализируют твои «Записки», словно эксперты, хотя даже обычная драка в борделе поставила бы их в тупик. И еще я не понимаю их слепой ненависти к тебе. Что ты им сделал? Раскрыл их никчемность? Но ведь они и впрямь таковы!
В-третьих, во времена своего консульства ты был добр с Публием Клодием. В своей гибели он сам виноват. Смею сказать, что неортодоксальность, свойственная всем Клавдиям, приобрела в нем форму безумия. Он не знал предела, не знал, когда надо остановиться. Уже больше года прошло, но я все еще скучаю по этому человеку, несмотря даже на то, что перед печальным событием мы с ним повздорили и были в ссоре.
Четвертая причина сугубо личная, хотя она связана с тремя предыдущими. Я по уши в долгах и не могу сам выпутаться из них. Я очень надеялся, что все разрешит смерть отца, но он ничего мне не оставил. Не знаю, куда ушли деньги, но их определенно нигде не было, когда его страдания кончились. Я унаследовал только дом, однако и он заложен. Ростовщики ходят за мной по пятам. Уважаемая финансовая организация, владеющая закладной на дом, грозится лишить меня права на его выкуп.
К тому же я хочу жениться на Фульвии.
«Вот в чем дело!» — слышится мне твой комментарий. Да, вдова Публия Клодия чуть ли не самая богатейшая женщина в Риме и станет намного богаче, когда ее мать умрет, чего ждать уже недолго. Но я-то — бедняк. Я не могу подступиться к той, кого любил многие годы, я не могу жениться на ней, пребывая в долгах. Впрочем, я ни на что особенно и не рассчитывал, но на днях с ее стороны мне был сделан намек, и весьма откровенный. Я был сражен. Я умираю от влечения к ней, но даже не смею взглянуть на нее. Меня связывают долги.
Итак, вот что я предлагаю. Учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию, тебе понадобится самый способный и самый умный плебейский трибун, какой когда-либо имелся у Рима. Ибо у них просто слюнки текут в ожидании того дня, когда Палата, уже в соответствии с конституцией, поднимет вопрос о твоих провинциях. Boni тут же внесут предложение отобрать их у тебя и послать туда Агенобарба. Он, конечно, богат и ленив, но из желания тебе насолить дойдет до Плаценции на руках.
Цезарь, если ты погасишь мои долги, я даю слово Скрибония Куриона, что стану отстаивать твои интересы. Как минимум мне нужно пять миллионов.
Цезарь долго сидел, не шевелясь. Удача вновь была с ним, и какая удача! Курион — его плебейский трибун, а главное, трибун купленный! Это очень важный нюанс, ибо свой кодекс чести имеется и у тех, кто берет взятки. Строгий кодекс. Если человека купили, он остается верен тому, кто его купил. Ибо позор не в том, что его купили, а в том, что он не остался купленным, предал. Человек, который взял взятку, а потом предал, с того самого момента считается социальным изгоем. Удача заключалась в том, что ему предложили плебейского трибуна калибра Куриона. Дело не в том, будет ли он так эффективен, как думает. Если даже его эффективность будет наполовину ниже, он станет бесценной жемчужиной.
Цезарь выпрямился, сел за стол, взял перо, обмакнул в чернильницу и стал писать.
Мой дорогой Курион, я поражен. Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем привилегия помочь тебе выбраться из финансовых затруднений. Поверь, я не потребую от тебя никаких услуг в ответ на эту услугу. Выбор тут только твой.
Однако если тебе захочется что-нибудь для меня сделать, я готов это с тобой обсудить. Boni и впрямь обвились вокруг моей шеи, как змеи Медузы. Не имею понятия, почему они выбрали меня своей жертвой, и это уже на протяжении многих лет, что я в Сенате. Впрочем, это неважно. Важен факт, что я — их мишень.
Но если нам удастся заблокировать их в дни следующих мартовских календ, наш маленький союз все равно должен оставаться секретным. И не советую тебе объявлять, что ты намерен баллотироваться в плебейские трибуны. Почему бы тебе не подыскать нуждающегося человека, который с удовольствием объявит себя кандидатом в трибуны, но столь же охотно в последний момент отзовет свое имя из списка? Конечно, за приличное вознаграждение. Кто это будет, решать тебе, а деньги даст Бальб. Когда этот человек снимет свою кандидатуру перед самым голосованием, ты предложишь себя, словно это твое мгновенное решение. В этом случае никто даже и не подумает, что ты можешь действовать в чьих-либо интересах.
Далее же, дорогой Курион, тебе следует проявить политическую активность. Если хочешь иметь список полезных нововведений, я с удовольствием тебе его предоставлю, хотя считаю, что ты и без моих указаний можешь продумать, что стоило бы провести. Действуй самостоятельно — и тогда в мартовские календы твое вето на постановку вопроса обо мне и о моих провинциях явится для boni подлинным выстрелом из скорпиона.
Выработку стратегии поведения оставляю полностью за тобой. Можно ли полагаться на человека, у которого связаны руки? Но если появится что-то, что нужно обговорить, я к твоим услугам.
Хотя предупреждаю: boni не станут сидеть сложа руки. Оправившись от удара, они начнут деятельно искать способы повлиять на тебя. Одно из свойств хорошего политика — непреклонность. Но и осмотрительность тоже. Ты мне симпатичен, Курион, и я не хочу увидеть, как сверкают ножи, брошенные в твою сторону. Или как тебя сталкивают с Тарпейской скалы.
Сделают ли тебя десять миллионов свободным от всех обязательств? Если сделают, считай, что они у тебя есть. Я напишу сейчас и Бальбу, так что ты можешь явиться к нему в любое время по получении этого письма. Несмотря на кажущуюся склонность к болтливости, он очень расчетливый человек. То, что словно бы походя слетает с его языка, продумано до междометий.
Поздравляю тебя с твоим выбором. Фульвия — интересная женщина, а интересные женщины редки. Она очень религиозна и будет тебе верной спутницей. Впрочем, ты знаешь это лучше меня. Пожалуйста, передай ей мои лучшие пожелания и скажи, что я с удовольствием с ней повидаюсь, когда вернусь в Рим.
Вот. Десять миллионов потрачены с пользой. Но когда же он сможет возвратиться в Италийскую Галлию? Стоял июнь, а вероятность этого возвращения все еще была очень мала. С белгами вроде бы покончено, но Амбиориг и Коммий все еще на свободе. Поэтому белгов придется еще разок проучить. Зато с племенами Центральной Галлии все теперь будет в порядке. Арверны и эдуи, легко отделавшиеся, больше не станут слушать таких, как Верцингеториг или Литавик. Подумав о Литавике, Цезарь содрогнулся. Сто лет подчинения Риму не убили в нем галла. И возникает вопрос: не таковы ли все галлы? Опыт подсказывал, что страх и террор в конечном счете бесперспективны. Отношения, на них основывающиеся, не выгодны ни Риму, ни Галлии. Но как подвести галлов к тому, чтобы они сами поняли, в чем их судьба? Сейчас — страх, террор. А когда обстановка улучшится, будут ли они благодарны? Или всегда будут помнить о пережитом? Война для людей, отличных от римлян, — это занятие, замешанное на страстях. Эти люди идут в битву, кипя праведным гневом, одержимые жаждой убить как можно больше врагов. Но подобный накал эмоций недолговечен. Когда все уляжется, воины возвращаются по домам. Они уже хотят мира. Хотят жить обычной жизнью, смотреть, как растут дети, сытно есть и не мерзнуть зимой. Только Рим превратил войну в бизнес. И потому он всегда побеждает. Римские солдаты тоже обучены ненавидеть противника, но дерутся с холодными головами. Тщательно вымуштрованные, абсолютно прагматичные, совершенно уверенные в себе. Они понимают разницу между проигранным боем и проигрышем в войне. Они также понимают, что победа куется задолго до того, как полетят первые копья. Сражения выигрываются на тренировочных плацах. В цене дисциплина, сдержанность, ясность мышления и отвага. А также профессиональная гордость. Ни у одного народа нет таких солдат. А таких солдат, как у Цезаря, нет ни в одной другой армии Рима.
В начале квинктилия пришли тревожные вести. Цезарь все еще был в Бибракте с Антонием и двенадцатым легионом, хотя он уже дал Лабиену приказ усмирить треверов, а сам собирался в земли Амбиорига, в Галлию Белгику. Эбуронам, атребатам и белловакам следовало дать последний и самый жестокий урок.
Марк Клавдий Марцелл, теперешний младший консул, публично выпорол гражданина колонии Цезаря в Новом Коме. Конечно, не своими белыми ручками. Все сделали по его приказу. Вред был нанесен непоправимый. Римского гражданина не дозволялось пороть. Его можно было лишь отстегать прутьями из фасций ликторов, да и то не по спине. Спина римлянина защищалась законом. Этим Марк Марцелл объявил всей Италийской Галлии и Италии, что многие из тех, кто считает себя римскими гражданами, никакие не граждане. Их можно пороть, и их будут пороть.
— Я этого не потерплю! — сказал Цезарь Антонию, Дециму Бруту и Требонию, белея от гнева. — Люди Нового Кома — римские граждане! Они мои клиенты, и я обязан их защитить.