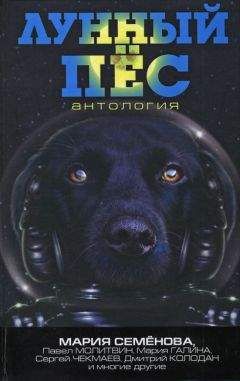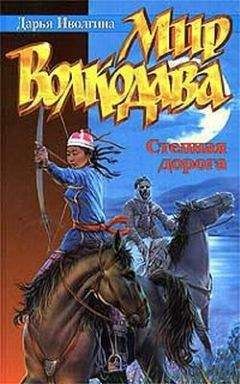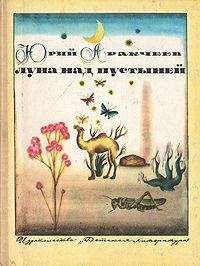Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем)
Она сидела у окна, стеклянная стрекоза вспыхивала осколком заката, на душе воцарялось необыкновенное спокойствие… Пошабашив, уходили со двора рабочие. Зинаида Степановна подумала о Бруно – прежним ли будет после свидания с дядюшкой, не переменится ли, ведь там, в Вильне, могут наговорить бог весть что… Но сейчас тревога не была пронзительной, а звучала, как под сурдинку, в ее печальном и светлом спокойствии.
* * *Тамбовская улица, недальняя от вокзала, не могла похвастать старинными строениями, почтенный возраст которых, будь они даже и безобразны, сообщает улицам необщее выраженье. Нет, Тамбовская была обыкновенной губернской улицей с деревянными домами, в садах с жасмином и сиренью.
На Тамбовской в несобственном доме жил Всеволод Александрович Лопатин, тысяча восемьсот сорок восьмого года рождения, православного вероисповедания, беспоместный дворянин, семейный (жена и дочь), служащий бухгалтером на железной дороге. Младший брат Германа Александровича Лопатина, бывший студент Московского университета, из храма наук изгнанный по причине неблагонадежности, в тюрьмах сидевший, особым присутствием правительствующего Сената судимый по процессу 193-х народников-пропагаторов, из судебного зала удаленный за упорный отказ отвечать на вопросы господ сенаторов, отбывавший ссылки и пребывавший то под явным, то под тайным надзором полиции.
Некогда они с Германом составляли домашнюю «партию», она не враждовала с «партией» двух других братьев, но, что называется, думала по-своему. Те двое – славные ребята – двинулись по военной линии и теперь уже дослужились до штаб-офицеров, исправно командуя армейскими подразделениями. Продвижению в чинах ничуть не препятствовало то обстоятельство, что брат их родной был известным всей России государственным преступником и находился в пожизненном одиночном заключении в каторжной тюрьме, тоже известной всей России.
Всеволод Александрович не мог бы и словечком попрекнуть мундирных Лопатиных: они сострадали Герману. То было стародавнее фамильное чувство: в русских дворянских гнездах не так уж и редко возрастали крамольники. С тем же чувством помнил Германа и отец. Умирая в Ставрополе, отметил в своем завещании – шесть тысяч рублей моему несчастному сыну. На краю вечности отец все еще надеялся, что заточение Германа не будет вечным.
Но, в отличие от братьев и сестер, сострадание Всеволода определялось еще и духовным побратимством с Германом: оба, пусть и в разных рангах, числились в списках экипажа, потерпевшего крушение. И то, что он, младший, спасся, уцелел, живет-поживает среди садов губернской улицы, греется у домашнего очага, ходит в гости, прогуливается с дочерью по холмам, дышит вольным воздухом, может ехать в отпуск куда хочет, – все это увеличивало напряженность сострадания старшему брату.
О судьбе его думал Всеволод Александрович пристально. Ездил в Питер, к Даниельсону, тот по-прежнему жил на Большой Конюшенной и по-прежнему служил в Обществе взаимного кредита. Собрал книги, переведенные старшим братом, изданные в России, одни с именем переводчика, другие безымянно. Ряд увесистых фолиантов замыкала тоненькая брошюрка, отпечатанная много лет назад за границей – «Процесс 21-го». И беседы с Даниельсоном, и книги, и то, что случалось узнавать от товарищей, рассеянных бурями, и это изначальное родство по душе – все вместе постепенно, но пронзительно, ибо тут участвовало сердце, осветило последние полтора десятка лет жизни старшего брата: от сибирской одиссеи до роковой железной калитки в башне Шлиссельбургской крепости.
Обращение к переводам Спенсера не было всего лишь способом материального существования. То была потребность духовная. И вместе практическая. Коренные вопросы морали Герман приложил к тем революционным действиям, что отозвались эхом выстрела в Петровском-Разумовском. Тут мысль была долгая и почти фанатическая. Знаток «Капитала», Герман не склонен был все списывать на классовые отношения и социальные условия. Он не отрицал исторической активности личности и не усматривал в революции испепеление морали. И ему внятна была роль случайностей. Не замедляй они или не ускоряй «ход вещей», история была бы слишком мистической штукой. Нет, Герман не отрицал случайности, особенно такие как душевный склад лидеров, движителей кружков и партий. Маркс выходил из мира чистой этики в мир материальный, из мира персональных отношений – в мир социальных, Герман шел вслед, но оборачивался, оборачивался.
Мир утрачивал этику религиозную. А где этика нерелигиозная? Между тем «ход вещей» все круче сворачивал к террору. Пропаганда в народе увяла, «романтики» уходили в катакомбы конспирации. Герман невесело трунил: «Держатся кучками, точно тараканы». Он отрицал пальбу по одиночным мишеням. «Романтики» тщились забрить ему лоб. Герман уклонялся, не завязывая диспутов: «вожди» поглощены делом, а «публика» поглощена обаянием «вождей». К тому же нельзя было не признать, что практика «романтиков» действительно устрашала неприятеля.
В уклончивости Германа многие усматривали нежелание состоять нумерованным членом такой-то или такой-то организации. Всеволод не соглашался, но, правду сказать, угадывал в натуре старшего брата русскую чуждость внешним формам – жмут под мышками, застят глаза, как шоры, эдакая, прости господи, прелестно-дворянская разбросанность.
И вдруг: Герман в самом центре, в самой гуще организации. Стремительно покидает Париж, мечет судьбина по российским городам и весям… И ведь когда, в какое время? Ветераны погибли на эшафоте: Желябов, Перовская… Сгинули в казематах Михайлов и Фигнер… Последний из старой гвардии – эмигрант Тихомиров – не смел показаться в России… «Народная воля» лежала в руинах; шнырял Дегаев, предатель, и реял, как нетопырь, обер-шпион Судейкин… Герман не примыкал к «романтикам», пока те были в силе. И протянул руку, когда их дробил молот репрессий. Не весь ли в этом незабвенный Герман?
Была, однако, точка – прикосновение к ней отзывалось болью; боль эта держалась как бы в стороне от большой, непреходящей. Именно эту точку, случалось, сильно трогали некоторые из друзей по минувшим временам и делам: Герман, конечно, вне всяких подозрений, но, падая, как подрубленная сосна, он сокрушил подлесок.
Это было верно: подобно скале, низринутой подземным толчком, Герман увлек за собой десятки, сотни камней – его арест был прологом многих арестов. Это было так, но это было не совсем так, и Всеволод Александрович мог бы поклясться… Что толку в клятвах? Опустив глаза, мучайся и невозможностью защитить Германа, и тем, что такой человек нуждается в защите.
Многие роковые обстоятельства предопределили катастрофу, но Всеволоду Александровичу были они неизвестны. Их знали и понимали те, кого судили вместе с ним, и они снимали с него нравственную ответственность. Но голоса тех людей звучали в четырех стенах военного суда, а потом заглохли в каторжных норах.
Знали об этих обстоятельствах и по ту сторону баррикады: Отдельного корпуса жандармов полковник Оноприенко, сухощавенький, черноглазенький, с нервным, желчным лицом; корректный и педантичный жандармский ротмистр Лютов; генерал Цемиров, военный юрист с повадками квартального; и, наконец, лощеные, светски-невозмутимые гвардейцы в штаб-офицерских эполетах, заседавшие за столом военно-окружного суда.
Но и они молчали. Да и о чем говорить? Все сказано государем! «Надеюсь, что этот раз он больше не уйдет», – написал Александр Третий на докладе о поимке Лопатина.
* * *Огромные фолианты – жандармские и судебные – грузно, как корабли, обреченные забвению, потонули в сумеречных, беззвучных пучинах.
Но и эти обломки подвластны глубинным течениям, и то, что некогда лежало под спудом в Петербурге, медлительно и валко переместилось в Москву.
Я не люблю архивы в новейших зданиях из стекла и бетона. И не люблю документы на микропленке, галантерейной, как целлулоидные воротнички. Я люблю архивы в старинных зданиях с «архитектурными излишествами» и люблю первозданность документа, даже если он в мертвенно-синей обложке департамента полиции.
В Москве совпало все.
Дворец, возведенный Петром для Франца Лефорта (дым стоял коромыслом в часы громокипящих ассамблей), дворец, доставшийся потом светлейшему Меншикову, но сохранивший доселе имя Лефортовского: въезд огромный, хоть верхами по четыре в ряд, и тяжелый, гаубицей не прошибешь; аркады, словно аккорды, взятые органистом, коринфские пилястры, элементы нарышкинского стиля – короче, выдержанность и законченность классических принципов. И потому уместна тут строгая, как фортификация, табличка: «Центральный Государственный военно-исторический архив».
Лет пятнадцать–семнадцать назад в читальном зале не мыкались в поисках рабочего места. Рачительная хозяйка привечала по-домашнему, я и теперь признателен милой Надежде Павловне. И признателен архивистам, еще не успевшим широко внедрить микрофильмы, хоть и понимаю, что срок носки целлулоидных воротничков дольше, нежели матерчатых.